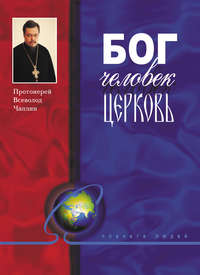Полная версия
Бог. Истина. Кривды. Размышления церковного дипломата

Протоиерей Всеволод Чаплин
Бог Истина Кривды Размышления церковного дипломата
Правда и кривды: «теология приспособленчества»
Все ли равно, как и во что верить? Этот вопрос сегодня обсуждают очень живо. Подчас даже горячо, эмоционально, жестко. Иногда приходит священник в светскую аудиторию или появляется в соцсетях – и тут же его с вызовом спрашивают:
– А почему ты решил, что твоя вера правильная? Я вот, наверное, мусульманин (буддист, язычник, сторонник «бога в душе», агностик или даже атеист) – но пусть ваша вера меня не отвергает, а ваш бог (если он есть) введет меня в рай!
Еще недавно, в 90-е годы, большинство людей таким вопросом не задавалось. Как только советский и ранний постсоветский человек начинал приходить к вере, его уже поджидали мнения западных авторов и наших интеллигентов-«шестидесятников». Большинство их говорило: если Бог и существует, то все пути ведут к Нему, если ты хороший человек и у тебя наличествует некая «духовность».
Подобную позицию проповедовали сначала «продвинутые» советские писатели и публицисты, потом рериховцы и неотолстовцы, затем всякого рода полуверующие «совести нации». Вскоре дошло до популярных в постсоветском обществе магов, колдунов, «экстрасенсов», а потом и до значительной части сектантов. Верь во что хочешь – главное, слушай нас. С таким «подходом» долго соглашалось почти все «мыслящее» население России и других постсоветских стран.
Иногда подобным речам вторили седовласые или юные деятели в рясах – как же, мы не ретрограды, в любой вере есть крупица истины, каждому народу Творец дал свою веру, не будем узкими… Интеллигенция умильно кивала: вот какие они воспитанные, не то что черносотенцы начала века, Иоанны Кронштадтские какие-нибудь…
И в это время прозвучал робкий голос православных миссионеров – в частности, отца Андрея Кураева, одна из книжек которого называлась «Все ли равно, как верить»? Постсоветский социум, легко перепрыгнувший из атеизма в религиозную всеядность, вдруг услышал крайне неожиданную для себя вещь: настоящее, то есть православное, христианство, считает, что истина только одна. И истинная религия – одна, а остальные ложные. К Богу ведут отнюдь не все пути – лишь единственный. Потому что Сам Христос сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через меня» (Ин. 14, 6).
Нравственное учение Христово – это не просто закон. Господь не желает добиться формального исполнения человеком пунктов морального кодекса. Он жаждет полного духовного перерождения человека, после которого самая мысль о грехе, самое желание греха были бы чужды и противоестественны освященному сердцу. И такое новое состояние человеческой души, по слову Христову, не может быть достигнуто привычными средствами нравственного улучшения души – будь то самосовершенствование, внешнее принуждение, руководство учителя, мистическая практика и так далее. Все эти средства могут быть полезны, но лишь тогда, когда они объединены вокруг главного средства нравственного обновления личности.
Это средство Господь неразрывно связал со Своими нравственными установлениями. Это средство – единственное, что может помочь человеку достичь высокого евангельского нравственного идеала. Это средство – основа христианской этики, основа ее жизненности, которой не смогли достичь все мертвые законы. Это средство делает христианскую нравственность уникальной и неповторимой, а следующих ей людей – достойными спасения и святости.
Это средство – благодать Божия.
Христианская нравственность невозможна без благодати. Именно поэтому Господь сказал Своим ученикам, ужаснувшимся высоте евангельской нравственности при беседе Христа с богатым юношей и спросившим Его, кто же может спастись: «… Человекам это невозможно, Богу же все возможно» (Мф. 19. 26). Благодать Божия, действие Божие как основа и средство нравственного обновления человека возможны, по вере христиан, только со Христом, только в Церкви Его, «ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1. 17). Вне Церкви душа человека продолжает томиться в границах естественной нравственности, не будучи в силах достичь полного нравственного преображения.1
Многие люди, считающие, что почитают Бога, на самом деле поклоняются кому-то несуществующему (например, тому же «богу в душе»), а то и бесам. Потому что Бог – Таков и только Таков, Каким Он открыл Себя в Библии через истинную Церковь. Искаженные Его «версии» – это не истинный Бог.
Более того, и в рамках условного «христианства» вовсе не каждое учение правильно. Существуют ереси и секты. Они не только уводят человека от Царства Небесного, но и выдают за Христа кого-то, кто разительно отличается от Сына Божия, описанного в Новом Завете и в Предании Церкви – то есть в решениях Соборов, творениях святых, текстах богослужения (а для православного христианина все это не меньший авторитет, чем Библия). То есть этот «кто-то» – не Христос.
После того, как все это было сказано, поднялся страшный вой. В чем только бедных миссионеров не обвиняли! Какими только чудовищами не представляли! Но их поддержал голос старцев, продолжавших еще дореволюционную традицию. А потом – голоса многих активных мирян. А затем – и целого ряда епископов.
В результате очень скоро миллионы людей поняли: настоящее учение о Боге не может не претендовать на уникальность истины. Это учение надо знать – иначе нельзя называться христианами. И вокруг этого учения могут идти непростые споры, в которых надо не просто проявить красноречие либо обнаружить объем знаний, а понять, что сказал и говорит людям Сам Бог. А значит, никуда не денешься от изучения и написания богословских текстов.
К началу «религиозного ренессанса» позднесоветских времен наша Церковь подошла интеллектуально ослабленной. Людей, способных писать на богословские темы, было от силы три-четыре десятка. Лишь некоторые из них были допущены к преподаванию в духовных академиях и семинариях, к официальной церковной печати. Остальные считались неблагонадежными. Но и в «официальной», и в «диссидентской» среде выделялись две линии: одна была нацелена на компромиссы, на встраивание в «современность» и на всяческий «прогресс», другая – на верность православным традициям, на твердое следование тому, что написано в Библии, канонах, творениях святых.
Первая линия в «официальных» кругах была связана с Отделом внешних церковных сношений (ОВЦС) Московского Патриархата. Основные идеи этого направления заимствовались у либеральных философов начала XX века, «прогрессивных» богословов русской эмиграции, а иногда даже непосредственно у их учителей – теологов католического и протестантского мира. После кончины, обычно насильственной, почти всех преподавателей и большинства выпускников старой богословской школы к руководству церковными учреждениями приходили талантливые самородки, обычно не имевшие собственной интеллектуальной позиции. Таким, например, был знаменитый митрополит Никодим (Ротов), в 60-е и 70-е годы возглавлявший ОВЦС. Человек мощного ума и недюжинной энергии, он с энтузиазмом взялся за новое дело – восстановление контактов Русской Церкви с зарубежным миром.
Впрочем, для полноценной работы на Западе нужно было выступать с интеллектуально состоятельными речами, представлять позицию по огромному кругу вопросов. Причем ожидалось, что тамошней публике – эмигрантской, западной или восточной, православной или католической, протестантской, иудейской или неверующей – российский представитель понравится. Именно это оценивалось церковными и светскими властями как один из главных показателей успеха в работе. И именно ради того, чтобы быть «принятыми» в кругах, жестко контролируемых западными элитами, было де-факто решено выработать приемлемую для них – но одновременно и для хрущевско-брежневских советских властей – богословскую позицию. А также забыть опыт 1948 года, когда – при Сталине – в Москве было собрано совещание Православных Церквей мира, которое фактически выдвинуло претензию на создание именно в России нового центра христианского мира. Без оглядки на Ватикан или кого-либо еще. При Хрущеве с параллельными центрами решили дружить – а в реальности стали заискивать перед ними, подстраивая под них русскую богословскую мысль.
Кому-то мои слова могут не понравиться, но я убежден, что настало время преодолеть «парижское пленение» русского богословия. <…>В православной традиции всегда в равной степени почитались разные тексты: от крупных научных богословских трактатов до кратких слов, которые произносили юродивые. Между этими двумя полюсами много другого – соборные определения, литургические тексты, пастырская проповедь, полемика с иноверцами и безбожниками, апологетика, наставления и письма известных духовников, изречения старцев. Все эти явления христианской мысли, безотносительно к их форме, в истории Церкви многажды отражали Божественное откровение. И если мы посмотрим на все это многообразие христианского послания в русской традиции, то мы увидим, что очень часто именно она стремилась быть максимально близкой к Писанию, к откровению Самого Бога, даже если это откровение кому-то в те или иные моменты казалось неудобным, неполиткорректным, слишком острым для успокоенной совести обывателя.
Впрочем, мира в отношениях с теми, кому чужд, неприятен или ненавистен дух благой вести Христа, Бог нам и не обещал. И значит, нужно об истине свидетельствовать, даже если это кому-то очень не нравится и этот кто-то, иногда по прямому наущению врага рода человеческого, побуждает нас молчать или говорить только приятные внешним людям вещи. <…>
Сегодня очень нужны православные интеллектуалы, способные мыслить независимо и одновременно хранить верность традициям тех народов, которые крепко связаны с евангельской вестью. Нужны люди, способные критически оценить некоторые штампы XX века и помнить о том, что наша главная и единственная лояльность – это лояльность Христу. Да, немаловажно, что о нас скажут люди, но не зря же сказано в Писании: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их» (Лк. 6, 26). По крайней мере, это очень плохо, когда речь идет о вопросах, которые касаются Божией правды и человеческих неправд. Нам нужно угождать не миру, но Богу и главное для нас – не что скажут люди, а что скажет Господь, увидев нас на Страшном Суде.2
Понятно, что иерархам-самородкам требовались знающие и более опытные советники. Таковыми, как часто бывает в России, оказались люди с либеральными убеждениями – а иногда с опытом жизни вне СССР. Тексты митрополита Никодима и многие озвученные им идеи формулировали эмигрантский политик, репатриант Александр Казем-бек (впрочем, этот человек в некоторых вопросах критиковал западный либерализм), а также проведший юность и получивший образование в «буржуазной» Польше протопресвитер Виталий Боровой. Несколько особняком стояли два других спичрайтера – Алексей Буевский и Николай Заболотский, сторонники сближения христианства с коммунистической идеей. Первого из них я хорошо знал – он был, конечно, верующим человеком, но пафос «миротворчества» и «гуманизма» в советском варианте почти полностью изжил в нем традиционные для Православия общественные взгляды. Второй скорее был тайным западником – и на старости лет переехал в Швейцарию.
От этих людей и митрополит Никодим, и два его преемника на посту главы ОВЦС – митрополиты Ювеналий (Поярков) и Филарет (Вахромеев) – интеллектуально зависели довольно сильно. Существовало и прямое влияние западных философов и теологов, в том числе принадлежавших к русской эмиграции. Встречаясь с этими людьми, наши иерархи подчас некритически воспринимали ими сказанное. Митрополит Никодим и вовсе был очарован Ватиканом – на фоне подсоветской ослабленности Русского Православия эта структура, с ее великолепными храмами, известными профессорами и епископами, университетами, издательствами, прессой, – казалась непререкаемым образцом для подражания.
В итоге лидирующая группа иерархов, богословов, составителей официальных церковных документов «проглотила» наживку в виде идей, весьма далеких от главного направления православной мысли XIX и предшествующих веков. Стало обычным делом говорить о том, что к Богу могут вести разные религии. Ради призывов к «миру» было подзабыто учение о том, что христианская вера может утверждаться силой государства, а защита ее с оружием в руках – как и защита Отечества, народа, ближних, – является священным долгом ученика Христова (о защите Родины, правда, много говорили в связи с опытом Великой Отечественной войны). Общепринятой тенденцией стал «экуменизм» – стремление сблизить разные, условно говоря, «христианские» сообщества, причем без явного и четкого заявления о том, что истина содержится только в Православии, а объединение может быть только на этой основе (настоящий православный человек иначе говорить и думать не может).
Появился феномен, который я назвал «сотериологическим агностицизмом». Сотериология – то есть учение о спасении – в истинном христианстве очень ясная. Сам Господь Иисус сказал, что «верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия» (Ин. 3, 18). Иоанн Креститель говорит о Нем: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Ин. 3, 36). В общем, для непредвзятого человека совершенно ясно: настоящее христианство не может не утверждать, что только последователи Христа войдут в Его Небесное Царство. Я не рискнул бы сказать, что туда попадут только православные и не войдут, например, некоторые католики или армяне – особенно те из них, кто на деле не исповедовал никаких ложных учений и не предавался сомнительным духовным практикам вроде католического самобичевания либо представления женщинами Христа как брачного партнера. Многие считают, что инаковерующим и неверующим Господь воздаст за добрые дела – и не каждый из них окажется в месте вечных мучений. Но в Царстве Христовом этих людей нет и не будет – иначе напрасными следует признать и распятие Христа, и Его учение, и Его Церковь. Он и только Он – безгрешный Богочеловек – мог искупить грех Адамова падения и все последующие грехи людей. Сами люди сделать этого не могли точно так же, как тонущий не может вытащить себя из болота, – у них не было на это власти. Однако Господь открыл нам, что признание Его искупительной жертвы и живая связь с Ним в Церкви делают возможным прощение грехов и вечное спасение. Вот его слова, сказанные апостолам и всем их преемникам – пастырям: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20, 23).
Вместо этого некоторые стали говорить, что мы якобы не знаем, кто спасется, а кто нет. Так, в одной из книг Патриарха Кирилла приводятся его слова, сказанные, как помнится, еще в бытность митрополитом: «Мы не знаем и не можем сказать, приводят ли другие религии человека к Богу или нет, ибо от нас это сокрыто и об этом будет судить Сам Бог». Более того, тот же Патриарх сказал, причем значительно позднее: «Когда нам говорят, что религии разделяют людей, мы говорим, что это ложь. Религия может отделять одного человека от другого тогда, когда этот человек далек от Бога, когда он не молится, не разговаривает с Богом, не чувствует Бога». Проблема – лишь в том, что некоторые религиозные учения не ведут к Богу, а уводят от Него, а то и прямо устремляются к сатане. И не случайно Христос говорит: «Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее» (Мф. 10, 35). Истина нередко объединяет, но еще чаще разделяет!
Профессор Алексей Осипов в своих рассуждениях идет гораздо дальше Патриарха: «Когда мы говорим о конфессиях, о других церквях или религиях – мы должны разбирать и знать, что в них есть доброе, а в чем – явные заблуждения. Но как только дело касается конкретного человека и, например, вы у меня спросите: «Вот этот шаман – спасется или нет?» – я беру пудовый замок и вешаю себе на рот. Не знаю, кто прежде спасется. <…> Когда меня спрашивают: «Буддизм – истина?» – я отвечаю: «Ложь!» Индуизм? Ложь! А вот этот буддист? Рот – на замок! Не знаю, кто спасется прежде: я, так называемый православный, или он – язычник»? Наконец, украинский иерарх советского периода митрополит Николай (Юрик) утверждал: «Ни одним словом не спросит Небесный Судия человека, к какой вере, к какой церкви или конфессии принадлежал».
Увы, приведенные чуть выше слова Евангелия говорят о неверующих во Христа совсем иначе. Однако в 70-е и 80-е годы, равно как и в начале 90-х, утверждение о том, что совершенство истины – лишь в Православии, почти исчезло со страниц официальных церковных журналов и «богословских» текстов.
Да, опасность «постправославия» и теплохладной «веры с человеческим лицом», носители которой хотели бы всем нравиться и ни с кем не ссориться, существует. Наверное, для Православия сегодня это один из главных вызовов. Истоки этой тенденции можно видеть уже в тех богословских штампах, которые мы начали принимать у католических и протестантских мыслителей середины прошлого века. Штампы, пришедшие в православное богословие через эмигрантские круги. Многие из этих штампов стали частью нашего богословского мышления. Я сам от них лишь постепенно пытаюсь избавляться. Вот хотя бы такие утверждения: «Мы не знаем, войдут ли в Царство Христово нехристиане и неверующие»; «Мы должны искать христианские корни в гуманизме»; «Бог один, но путей к нему много»; «Христианская государственность – это Константинов грех», и так далее. От этих штампов нам нужно освобождаться, если мы не хотим идти путем «постправославия», которое вроде бы обещает некие миссионерские успехи, но которое по большому счету бесплодно. Если вопрос об истине не имеет отношения к спасению, значит, и проповедь наша бессмысленна. Попытка слиться с окружающим мировоззренческим ландшафтом никогда не привлечет людей, по-настоящему ищущих истину. А на вопрошания этих людей мы сегодня не имеем права не дать ответ.3
Главными общественно значимыми темами стали «экуменизм» и «миротворчество». Попадалось и прямое одобрение коммунистической идеологии – в формулировках, которых не требовала даже советская власть. Заболотский в 1977 году писал: «При встрече с революцией в Церкви обнаружился существенный недостаток: она не была в состоянии стряхнуть с себя наследие векового, навязанного ей монархического ига. <…> Постепенно под влиянием новых норм жизни происходило формирование нового общественно-христианского сознания, которое способно синтезировать глубокую православную веру, преданность традициям с социалистическим образом мышления, с сознательным и ответственным служением в Церкви, обществе и государстве». «Богословие приспособленчества» достигает здесь одной из вершин – а лучше сказать, одной из нижайших точек падения. Впрочем, слова Заболотского не сильно отличаются от западной риторики, пытавшейся соединить христианство с «демократией, правами человека, толерантностью» и прочими идолами нынешнего политического мышления, воздвигнутыми как раз в борьбе с Церковью и с христианской государственностью.
Приспособленческая риторика увязывается с идеей земного «прогресса», совершенно чуждой христианскому сознанию. Вспомним, что история, по новозаветному учению, кончится торжеством зла, а затем – Божественным вмешательством, Армагеддоном и победой Христа. До этого технические достижения и «мир», достигнутый ценой отречения от Бога, станут лишь средствами невиданного порабощения и нравственного падения подавляющего большинства людей. Никакого «прогресса» в этом смысле, с точки зрения христианина, не может быть и не будет.
Это прекрасно понимало большинство православных богословов многих веков. И в России, где Церковь оказалась под гнетом советской идеологии и в плену приспособленчества к ней, многие это понимали по-прежнему ясно. Так, круг митрополита Питирима (Нечаева), долго возглавлявшего Издательский отдел Московского Патриархата, отдавая дань официальному «миротворчеству» и «экуменизму», все же старался хранить верность более ранней русской богословской традиции. Как только ослабло давление советского режима, в церковных изданиях стали появляться творения «черносотенца» Иоанна Кронштадтского, рассказы о чудесах ХХ столетия, о недавних страдальцах за веру, многие из которых были монархистами и жесткими приверженцами учения о Православии как о единственной, безальтернативной истине. Не склонной к «прогрессизму» была и Московская духовная академия, крепко связанная с чуждой подобным веяниям Троице-Сергиевой лаврой.
Кроме богословских и идейных споров, лежавших «на поверхности», в мире «официальных» лекций, речей, статей и докладов, существовала и неформальная среда – духовники, диссиденты, старцы, проповедники, авторы самиздата. Здесь, конечно, были свои экуменисты и прогрессисты. Протоиерей Александр Мень и священник Георгий Кочетков практически признавали наличие настоящего христианства вне Православной Церкви – у католиков и отчасти у протестантов. Священник Сергий Желудков не принимал многое в Евангелии, зато оправдывал материализм – недаром диссиденты-атеисты чувствовали свою близость к нему, ведя очные и заочные дискуссии с «прогрессивным» клириком. «Приспособляемость, – прямо утверждал он, – есть свойство живого организма. Церковь приспособляется: значит, она живет».
Однако консервативная сторона была представлена гораздо большим количеством ярких личностей – пусть не все из них были широко известны, в первую очередь потому, что их не «раскручивал» через радиоголоса и «тамиздат» Запад, понимавший чуждость этих людей своим доктринам и планам. Хорошее паблисити получил только священник Димитрий Дудко – но и от него в Европе и Америке быстро отвернулись, формально из-за частичного примирения с советской властью в 1980 году, а на деле из-за его монархических и русофильских симпатий, а затем и из-за осуждения им либеральных реформ постперестройки.
Гораздо меньше были известны, например, Виктор Аксючиц – редактор самиздатского журнала «Выбор», сторонник православного традиционализма, или Владимир Осипов – честнейший диссидент, проведший 15 лет в тюрьмах и лагерях и никогда не шедший на сотрудничество с КГБ или тюремной администрацией. Этот человек обличал Запад не меньше, чем советскую власть. Он принципиально не принимал и сегодня не приемлет «экуменизм», настаивает на том, что вне Православия нет ни истины, ни вечной жизни, ни настоящего смысла бытия. Модернистские тенденции критиковали и всероссийски известные старцы – архимандриты Иоанн (Крестьянкин), Зосима (Сокур), Адриан (Кирсанов), Наум (Байбородин), Петр (Кучер), протоиерей Николай Гурьянов. Их тексты почти не публиковались в церковной печати, но их слово, разносившееся через народную молву, по значимости было несопоставимо с речами теологов-приспособленцев. В отличие от пространных и хотя бы потому неубедительных рассуждений модернистов, старцы говорили просто и сильно. Отец Иоанн (Крестьянкин) на вопрос об экуменизме отвечал так: «Ни-ни! Сохрани Господь и помилуй!» А насчет сектантов он писал: «Не обольщайтесь: все прекрасно, кроме спасения души, да и так ли прекрасно»? А вот слова отца Петра (Кучера): «Богоматерь говорила, что католики должны покаяться и вернуться в лоно Истинной Церкви, принять Православие и только таким образом соединиться с нами. Разве золото смешивают с чугуном и ржавой сталью или бросают в металлолом? Зачем же нам бросать свое золото – Православную веру – в эту экуменистическую кучу металлолома»? Происходил и глубокий анализ «теологии приспособленчества». В 1971 году священник Николай Гайнов и диссиденты Феликс Карелин, Лев Регельсон, Виктор Капитанчук обратились к церковному Собору с весьма аргументированной критикой экуменизма и модернизма – но никакого внятного ответа, увы, не получили.
Собственно, его и быть не может. И Писание, и Предание говорят о том, что истина – только во Христе. При этом непрерывная традиция Церкви, восходящая ко Господу Иисусу и апостолам, постепенно отсекала взгляды и практики, к настоящему христианству отношения не имеющие – например, пацифизм, игнорирующий тот факт, что в мире, где природа человека поражена грехом, войны и преступления неизбежны, а значит, ближние, отечество, да и вера нередко нуждаются в вооруженной защите. Отвергнуто было также учение о том, что разные пути равно ведут к одному Богу. Не приняла христианская традиция и молитвенных практик, основанных на чувственной экзальтации, а иногда даже на полуэротических переживаниях – но это, увы, присутствует во многих неправославных общинах на Западе.
Удивительно, что некоторые люди здесь, а также на православных сайтах для интеллигентствующих домохозяек пытаются оправдать не чем-нибудь, а как бы христианством… свои представления о якобы высшей ценности земной жизни, да еще и приверженность земному комфорту, налаженному обывательскому быту и так далее. Перечитали бы Евангелие… Вспомнили бы, что оно совершенно противоположно обывательщине и стремлению «пожить в этом мире» и считать, что с вечным спасением уж как-нибудь само собой все получится. <…>