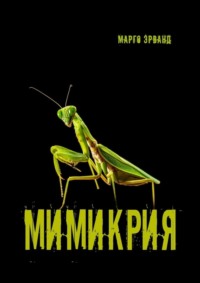Полная версия
Бремя любви
– Почему ты снова все валишь в одну кучу? Просто, знаешь, нам ведь даже двадцати лет нет…
– И что из этого? К чему ты это сказал?
– Я с родителями виделся на неделе.
– Понятно. И что, они тебя домой поманили? Горы золотые наобещали?
– Насть, давай потом поговорим, ты сейчас какая-то взвинченная.
– Когда – потом? Почему ты мне не рассказал про родителей? Они тебя снова против нас настраивали. Что, думаешь, я не догадываюсь, как они ко мне относятся? Виталику через две недели будет уже пять месяцев, а они даже ни разу, слышишь, ни разу не пришли и не позвонили. Им не нужен этот внук. Им не нужны мы!
– Перестань говорить глупости, ничего они меня не настраивают. Они мои родители, а не чудовища, которыми ты их пытаешься представить. И, чтоб ты знала, они хотят купить нам машину, чтобы нам было легче возить ребенка на процедуры, чтобы мы не ездили в переполненных автобусах и трамваях. Вот какие они монстры!
Он ушел, не дожидаясь язвительной реплики, что вертелась у меня на языке. Его шаги и мой возмущенный крик потерялись в пронзительном плаче малыша. Виталик извивался у меня в руках и истошно орал во все горло.
Эта наша ссора с Ромой была не первой и, увы, не последней. И когда Виталику исполнилось шесть месяцев, он собрал свои вещи и уже больше не вернулся. Я умоляла его остаться. Я хотела сохранить семью, сохранить нас, а он боялся потерять себя. Он ушел. Я легла рядом с Виталиком на кровати, любуясь его выразительными слегка раскосыми глазами, похожими на две большие бусины. Он улыбался своей беззубой улыбкой и крепко хватал меня за пальчик. Этот навык появился у него недавно, и я очень гордилась этим, но врачи даже в нем видели аномалию и сильное отставание от всех норм и правил. Врачи во всех его изюминках видели только дефекты, для меня же это все делало его особенным.
И вот, спустя месяц после того, как Рома нас оставил, в квартире раздался телефонный звонок. Звонила его мать. Я знала, что на чудо и помощь по воссоединению нашей семьи рассчитывать не стоит, но даже несмотря на это, ей удалось меня удивить. Из ее короткого монолога я узнала главное: «Этот мальчик не может быть сыном Ромы». И эти слова я не смогу забыть, не смогу простить. Никогда. Когда-нибудь, когда мой мальчик вырастет и станет выдающимся человеком, они все об этом пожалеют. Жестоко пожалеют…
Требовать алиментов или какой-то еще материальной поддержки я не стала, хотя мама и настаивала на этом. Мне было больно и обидно не столько за себя, сколько за сына. Раньше от него отказывались врачи, а теперь его отверг родной отец. Я не стала ругаться, судиться и требовать правды. Я ни о чем не жалела, крепко прижимая к груди малыша. С того дня он был мой и только мой!
Закат. Время 19:45
Клочок земли был огорожен лентой. Этого оказалось достаточно, чтобы сдержать натиск любопытной толпы. Огороженное пространство, точно сцена амфитеатра, было залито светом прожекторов. Мое появление взбудоражило толпу. Они жаждали зрелища, они ждали моего выхода. И я сделала еще один шаг к свету.
Мужчина в форме тут же отреагировал на мою вольность и попытался остановить и жестом и словом.
– Сюда нельзя.
– Да как это нельзя? Это же мать! – заревела толпа.
Я в ужасе оглянулась по сторонам. Да, мне не показалось, они все говорят обо мне. Я здесь главное действующее лицо. Я снова посмотрела на черный пластиковый пакет, дрожащий на ветру. Под ним лежал мой ребенок. Чего ждут все эти люди, с таким участием глядящие мне в душу? Наверное, мне надо закричать, упасть в обморок… Жаль огорчать, но я не испытываю ничего. Разве что облегчение и покой. Наконец-то, мы оба отмучились…
– Неизвестный напал на нее со спины и нанес несколько колотых ран…
– Напал на кого? – земля начала уходить из под ног. – На кого?
– Адашева Полина Оскаровна кем вам приходится? – спросил мужчина в полицейской форме.
Я закричала, что было сил. Он пытался заградить мне путь, но я сорвала ограждение, я бросилась вперед. Я должна была доказать ему, как он ошибается. Под этим черным пакетом в луже крови не могла быть моя дочь. Не могла. Я откинула пакет и… завыла. Я била ее по щекам и звала по имени, но мертвенно-бледное лицо моей девочки оставалось неподвижным. Чьи-то руки схватили меня и силой оттащили в сторону. Я орала и извивалась, пытаясь вырваться, и вновь оказаться рядом с ней.
– Нет! Нет! Нет! – кричала я. – За что?
***
Я лежала под капельницей, чувствуя, как сокращается моя матка. Час назад я уже просила медсестру позвать врача, но ко мне так никто и не зашел. Промежутки между схватками становились все короче, и мне с трудом удавалось пережить каждую из них. К моему животу проводами был подключен какой-то монитор, который вместе со мной проходил через испытание схваткой: я орала и проклинала весь мир, он пищал, рисуя какие-то графики. А стоило мне замолчать, как из соседних комнат начинали доноситься истошные крики моих родовых коллег. Каждую минуту по коридору больницы прокатывалась волна ужаса и боли. И только детский крик мог стать истинной наградой этим пыткам.
Оставшись одной с особенным ребенком на руках, я была убеждена, что моя судьба предопределена. Если мы оказались ненужными Роме, то глупо ожидать, что мы можем понадобиться кому-то еще. Но Оскару, казалось, это было все равно.
Он, студент театрального института, вместе со своими товарищами пришел в наше ателье, чтобы сшить костюмы для выпускного спектакля. Хозяйка обычно не допускала меня до клиентов, предпочитая лично брать мерки, что, по ее мнению, автоматически снижало риски на переделку. Тем не менее переделывали мы часто, как и получали недовольные отзывы клиентов. Однако в тот день было много народа, и она попросила меня помочь ей в общем зале. Хозяйка суетилась возле какой-то девушки, в мельчайших деталях описывающей, каким именно она видит свое платье. С женщинами всегда сложнее работать, им трудно угодить, потому я пригласила встать на подставку первого попавшегося на глаза парня из толпы и начала снимать с него мерки. Он был широкоплечим подтянутым парнем. От него приятно пахло парфюмом и ментоловой жвачкой. Все замеры я аккуратно записывала в тетрадку, после чего снова возвращалась к парню, обхватывая его тут и там сантиметром. Я чувствовала, что он смотрит на меня, сама же старалась избегать зрительного контакта. Эта процедура не всем по душе, а потому ни к чему создавать неловких ситуаций. Но два часа спустя, когда мы с ним столкнулись на улице, было уже совсем другое дело.
– Зачем ты меня караулил? – спросила я.
– Разве?
– А что, если я замужем?
– У тебя нет кольца на пальце.
– Может быть, тогда я с кем-то уже встречаюсь?
– Хочешь сказать, ты занята?
– В некотором смысле.
– Ну, значит, ему придется подвинуться!
Его настойчивость мне импонировала. Никто и никогда не врывался в мою жизнь таким ярким красочным вихрем. Я ему поверила и позволила проводить до дома.
Мне всегда казалось, что в сутках недостаточно часов, чтобы все успеть: работа в ателье, в магазине за кассой, частные заказы соседей, ну и, конечно, занятия с Виталиком для развития его физических и умственных способностей. Но с появлением в моей жизни Оскара я начала порхать, все успевать и даже больше. Я бегала к нему на свидания, как школьница, сидела в зале во время его выпускного спектакля, испытывая неизвестное мне чувство. Я восхищалась своей работой: костюм на нем сидел как влитой; но прежде всего я гордилась тем, что нахожусь здесь в статусе его возлюбленной.
Но эйфория закончилась в тот день, когда я поняла – у меня задержка. Я была так счастлива и беспечна, что спохватилась аж на третьем месяце.
– Ты чего нос повесила? – спросила мама, когда вместо привычной прогулки с Оскаром я просидела весь вечер в кресле. – Поругались, что ли?
– Хуже, – прошептала я.
– И не такое бывало, пройдет.
– Да, плюс-минус шесть месяцев.
Мне не пришлось ничего объяснять. Мама подошла и, сев на подлокотник, прижала меня к себе. Я слышала, как бьется в груди ее сердце, чувствовала ее теплое ровное дыхание у меня над головой, и этого оказалось достаточным, чтобы окончательно раскиснуть.
– Мне страшно.
– Это естественно, но безосновательно. Все будет хорошо.
– А что если?
– Нет! Снаряд не попадает в одну воронку дважды.
Мы никогда не говорили с ней о Виталике, о его врожденных патологиях. Никогда не строили разговор, отталкиваясь от формулировки «что было бы, если бы…». Виталик был моим любимым, и, я была убеждена, единственным ребенком. Уверена, что и мама не питала иллюзий на появление еще одного внука, и все же я была беременна. И это пугало меня, как никогда раньше.
Не был в восторге от этой новости и Оскар. Он долго ходил из стороны в сторону, и с каждым его шагом мое сердце падало все ниже и ниже. Наконец, он тяжело опустился в кресло. Его длинные изящные пальцы отбивали какой-то ритм на подлокотниках, в то время как он пристально смотрел мне в глаза.
– Ты уверена в том, что хочешь оставить этого ребенка? – спросил он.
– Сейчас мне важно узнать, чего хочешь ты.
– Я не знаю. Я не отказываюсь, просто…
– Это не то, чего ты ожидал. Я понимаю, – ответила я.
За окном пошел снег, и где-то там, во дворе, уже почти час мама гуляет с Виталиком. Они специально ушли из дома, чтобы мы могли спокойно поговорить, но говорить нам, похоже, не о чем.
– Я не собираюсь портить тебе жизнь, так что ты свободен.
– Чтобы мой ребенок тоже рос без отца? Только ты забываешь – в отличие от твоего бывшего я все еще жив!
Я так и не смогла признаться Оскару в том, что Рома бросил меня с ребенком на руках. История, которую я придумала для Виталика, была куда более трогательной и приятной. Да, она была трагична, ведь в ней Рома погиб в автокатастрофе, но зато он не бросал ни меня, ни своего сына. Иногда я и сама начинала верить в то, что Рома умер, а не побежал, как собачонка, к родителям, едва они поманили его деньгами, машиной. И сейчас, когда Оскар вспомнил о нем, я растерялась.
– Заболевания Виталика – это наследственное? – продолжал он. Это был чуть ли не первый раз, когда Оскар поинтересовался, чем болен мой сын.
– Ты сам знаешь, что нет. Но даже если так, не волнуйся: каким бы ни был этот ребенок, я справлюсь, – ответила я, кладя руку на едва заметный живот.
– Мы справимся. Я не собираюсь никуда уходить.
Он сдержал свое слово, и в канун нового года мы поженились. Церемония была скромной: только несколько его друзей из института и моя мама с Виталиком. Его родители приехать не смогли или… не захотели. Как не посчитали нужным быть рядом с сыном и в день рождения его дочки, их первой внучки. Но сейчас, лежа в родильном отделении, я об этом и не вспоминала. Надо мной столпился медперсонал во главе с врачом, командующим мне тужиться. Полина родилась на пятой потуге. И уже через мгновение ее первый крик поразил меня в самое сердце.
– У вас девочка, – сказала акушерка.
– С ней все в порядке? – спросила я. – Она здорова?
– Да, сердечко в норме, слизистые чистые… – Она проводила все необходимые манипуляции с моей крохой.
– Нет, физически все нормально?
– Да, сама посмотри!
Она положила мне на грудь сморщенный теплый комок, завернутый в пеленку. Малышка кряхтела и терлась личиком о мое потное тело. От нее пахло кровью и болью. А у меня по щекам текли слезы. Я провела рукой по ее мокрым волосам и в первый раз приложила к груди. В этот момент мы с ней вновь стали единым целым. Раз и навсегда.
Три дня мы с Полиной привыкали друг к другу под надзором врачей и медсестер. У меня за плечами уже был опыт материнства, но с ней все было по-другому. Она хорошо брала грудь, легко опорожняла желудок и крепко спала. Она соответствовала всем нормам. Она была здорова.
Из роддома нас забирал Оскар. Одной рукой он держал свою дочь, другой придерживал меня – свою жену. Я же свободной рукой держала своего сына – шестилетнего Виталика. В тот день каждый из нас испытал неизведанное чувство. Оскар впервые стал отцом, Виталик – братом, а я – мамой здорового ребенка.
Сумерки 20:20
Я сидела в машине скорой помощи, прислонившись спиной к холодному окну. Мои глаза были широко раскрыты, но я видела только потолочную лампу в салоне автомобиля. Она горела тусклым желтым светом, заманившим муху в ловушку. Она порывисто жужжала, пытаясь выбраться из западни. В своих попытках спастись она несколько раз ударилась о стеклянную крышку, прежде чем силы покинули ее. Муха летела к свету, а угодила в ад…
– Я могу с вами поговорить? – прорвался сквозь тишину низкий мужской голос.
Я промолчала, едва взглянув в его сторону. Он сел напротив меня и представился. Его имя было сложным. Я его не запомнила. Стеклянные глаза мухи с тоской смотрели на меня. Ее агония закончилась. Я закрыла глаза.
– Я понимаю, что вы сейчас испытываете. Но в расследовании убийств первые двадцать четыре часа особенно важны. Помогите нам найти убийцу вашей дочери. Может быть, ей кто-то угрожал? Она у вас красавица, наверняка у нее было много поклонников. Как думаете, мог среди них быть кто-то…
– У вас есть дети? – спросила я.
– Нет, пока нет.
– Тогда вы не можете понимать то, что я чувствую.
– Да, но мне доводилось терять близких людей.
– Это не одно и то же.
– Хорошо, наверное, вы правы. Так вы поможете следствию?
– Ее все любили. У нее не было врагов.
– Хорошо. Может быть, враги есть у вас?
– Как это случилось?
– Это мы и пытаемся выяснить. Опрашиваем свидетелей… Предположительно, он напал на нее сзади и нанес несколько ударов…
– Ее зар… – слова застряли у меня в горле, и я откашлялась, прежде чем продолжить. – У него был нож?
– Сложно сказать. Раны не похожи на ножевые, но экспертиза все прояснит.
– У нее сегодня должен был быть экзамен по химии…
– Да, мы нашли ее зачетную книжку.
– Она его сдала?
– Да, на отлично.
– Вы видели ее оценки?
– Да.
– Она круглая отличница и поступила на грант.
– Может быть, ей кто-то завидовал?
– Вы же видели ее… как ее можно не любить…
***
Я вылетела из кабинета директора, чувствуя, как бешено колотится в груди сердце. От злости у меня сводило челюсть, а в голове кружился целый рой оскорблений: «вы – продажная сволочь», «вы только деньги умеете собирать», «вы – самодовольная дура», но все они застряли в горле, стоило мне встретиться взглядом с сыном. Он сидел на диване, прислонившись к стене. Его волосы были взъерошенными, а под глазом наливался очередной синяк. Бедный мой малыш.
Час назад, когда мне позвонили из приемной директора, я и подумать не могла о таком финале. Это был уже третий визит на ковер только за последний месяц, а сколько их было за эти три года, что мой сын учится в этой школе… и не вспомнить. Но несмотря на частоту посещений, маленький, красиво обставленный кабинет всегда встречал меня настороженно-враждебно.
Директриса властно махнула мне рукой, разрешая войти. Она разговаривала по телефону, и, усадив Полину в кресло, у меня впервые появилась возможность осмотреться. Белые стены были завешаны разными грамотами и дипломами, а также фотографиями лучших учеников. Бессмысленно искать среди них родное лицо, здесь никто не верит в гений моего сына. Но я уверена, что когда-нибудь они об этом пожалеют. Настанет день, когда они будут с гордостью говорить о том, что Виталик учился именно в этой школе. Возможно, директриса будет приписывать себе лично его успех, уверяя всех, что несмотря на его физическую неполноценность и страшные диагнозы в анамнезе, именно она разглядела в нем настоящий алмаз. Да, тогда она, конечно, не будет вспоминать о том, как противилась принимать его в школу, давать шанс на полноценное образование. Она никогда не сможет признаться в своей слепоте и бессердечии. Но я ей напомню. Я ничего не забыла, хотя сейчас и вынуждена на многое закрывать глаза. Я знаю, ради кого делаю все это. Я рада, что не пошла на поводу у других и не отдала сына в интернат для умственно-отсталых детей. Мой мальчик уже три года ходит в обычную школу, и это наш с ним общий успех. Да, у нас есть проблемы в развитии, но, черт возьми, он уже в третьем классе. И мы сможем пойти дальше, что бы ни случилось.
– Вы в курсе, по какому вопросу вас сегодня вызвали сюда?
– Нет, но догадываюсь.
– Сомневаюсь, – выдохнула директриса. – Ваш сын подрался с одноклассником. И на этот раз агрессия и непонимание исходили от него, а не от задиристых ребят. Антонине Ивановне пришлось звать на помощь, чтобы расцепить мальчиков.
Каждая наша встреча начинается с подвигов героической Антонины Ивановны. Всякий раз именно этой 60-летней женщине, преподавательнице русского языка, выпадает миссия разнимать задиристых ребят.
– Мне очень жаль, но она не смогла вовремя прийти на помощь, и вашему сыну сильно досталось. У него ссадина на ноге, но вы не волнуйтесь, его уже осмотрел наш школьный врач. Ничего страшного, – сообщила мне директриса.
– Да, конечно. Я понимаю, они же мальчишки, – натянуто улыбнувшись, ответила я.
Мне уже давно следовало обратить внимание директрисы, что все инциденты происходят исключительно на уроках Антонины Ивановны, но… Я промолчала. Я не могу позволить себе такую роскошь. Я не могу говорить все, что думаю и чувствую, находясь в этих стенах. С первого дня мне неустанно дают понять, что мы здесь на птичьих правах и наш удел терпеть и не жаловаться. Не устраивает – забирай документы. Я предпочитала молчать. Ради сына. Ради его будущего. Но не сегодня. В этот раз инцидент с участием моего малыша пошел совсем по другому сценарию…
– Это сложный разговор, но дальше тянуть нельзя. Я уже не раз говорила, что вашему ребенку нужна другая форма обучения…
– Да, я помню, но…
– Выслушайте сначала. Вы сейчас сидите и думаете, наверное, что я просто издеваюсь над вами, хочу сделать вам больно. Но это не так. Я восхищаюсь вами. То, что вы делаете для своего ребенка – похвально. Но, увы, наши желания не всегда совпадают с реальностью.
Полина слезла с кресла и подошла к массивному столу цвета красного дерева и, встав на цыпочки, посмотрела на горы папок и бумаг, аккуратно сложенных в углу. Директриса даже не взглянула в ее сторону.
– Три года назад, когда вы умоляли меня дать ему шанс, я уступила. Я не смогла сказать вам нет, хотя и понимала, что из этой затеи ничего не получится. Три года мы закрывали глаза на его табель успеваемости. Но вы поймите меня, я не могу закрывать глаза на его неадекватные выходки и необоснованную агрессию по отношению к другим. У нас в школе учится больше тысячи учеников, и я не могу рисковать их жизнями ради того, чтобы ваш особенный ребенок получал то, что ему не нужно.
Полина потянула за листок, и папки пришли в движение. Они заскользили по поверхности и, наконец, упали на пол. Я тут же бросилась поднимать их. Многие их них были раскрыты, и мне на глаза попался чей-то табель успеваемости. «Литература – 3, русский язык – 3, математика – 3, география – 3, физкультура – 4».
– Пожалуйста, поговорите с нашим школьным психологом, – продолжала директриса. Она вместе со мной поднимала папки с пола. Сейчас ее голос звучал мягче, а выражение лица не было похоже на каменную маску. – Такие дети, как ваш сын, восприимчивы ко всему, что происходит вокруг. Эти его вспышки агрессии не возникли на пустом месте. У вас дома все хорошо?
– Поля, иди сюда! Не трогай это, я кому сказала? – окрикнула я дочь. Она потупила взгляд, и я взяла ее на руки.
– Такие дети впитывают в себя все, как губки, и без посторонней помощи не могут разобраться, что хорошо, а что плохо. И помощь тут нужна не кого-то там, а специально обученных людей, тех, кто понимает и знает, как нужно работать с такими детьми.
Что ты знаешь о таких детях? Что ты вообще знаешь о детях? У тебя их нет и никогда не было! И как только могли такую детоненавистницу сделать директором школы? За все эти годы она ни разу не назвала моего сына по имени. Для нее он какое-то безликое существо, ошибка природы, больной ребенок…
– Вы меня слышите?
– Слышу.
– Мы не можем продолжать обучение вашего сына. Это бессмысленно. Вот список центров по работе с такими детьми, – ответила она, протягивая мне лист бумаги. – Присмотритесь к ним. Я уверяю вас, ему там будет лучше. Никто не будет над ним смеяться, тыкать в него пальцем или толкать на переменах. Ему не нужно будет столько времени сидеть за учебниками. Вы же и сами это прекрасно понимаете – ему тяжело здесь.
Полина уткнулась мне в шею. Я обняла ее, машинально гладя по спине. Слова директрисы, точно мячики для пинг-понга, летали по комнате, ударяясь о стены и эхом отдаваясь у меня в ушах.
– Почему вы молчите?
– Вы просили выслушать вас.
– Хорошо, мне больше нечего добавить к сказанному.
– То есть теперь могу высказаться я?
Директриса сложила на столе руки, сцепленные в замок, и утвердительно кивнула головой.
– У меня не было времени подготовиться к этому разговору, в отличие от вас. Даже список центров нашли. Спасибо, но не стоило так беспокоиться, – начала я. Мое сердце колотилось в груди. Мне не хватало дыхания, и я старалась говорить членораздельно, чтобы каждое мое слово достигло цели. – Все эти годы вы не давали мне возможности забыть, какое одолжение делаете, позволяя Виталику учиться здесь. И я это ценила. Я ни разу не пожаловалась вам на ссадины и синяки, которые находила на теле сына в течение этих лет. Я понимала, что это, наверное, и есть та цена, которую он должен заплатить за полноценное образование. За билет в жизнь. Я плакала по ночам в подушку, но молчала. Я учила сына быть терпеливым и не таить обиду на одноклассников, которые над ним смеялись и обижали; на преподавателей, которым не хватало терпения дослушать его до конца или понять, что ребенок действительно хочет в туалет, а не слоняется по коридорам без дела. Я молчала! А что делали вы? Вы хоть раз пригласили сюда родителей тех, кто обижал или бил моего ребенка? Вы хоть раз отчитали преподавателя за то, что ребенок в ее классе описался?
– Как вы смеете так говорить со мной! – взвилась директриса. Она встала с кресла, опираясь руками на стол. – Я три года…
– Что три года? Терпели нас, закрывали глаза на нашу успеваемость? Так Виталик не один такой у вас! Вы повнимательнее посмотрите в эти папки, – крикнула я, тыча пальцем в кипы бумаг у нее на столе. – У вас школа не для одаренных детей, если вы этого так и не поняли! У вас полно троечников, но уверена, что и их родители не были тут ни разу!
– Прекратите повышать на меня голос! Я вам помочь пытаюсь. У вас больной ребенок, и к нему нужен другой подход! Но, знаете, я сейчас многое поняла. Я ведь не просто так спросила, все ли в порядке у вас дома? Вы посмотрите на себя, как вы себя ведете! А потом еще удивляетесь, откуда у такого ребенка берется агрессия и жестокость?
Полина начала плакать. А я прыгать с одной ноги на другую в попытке ее успокоить, в попытке перекричать директрису.
– Не смейте трогать мою семью! У нас дома все в порядке, а вот у вас в школе все уже давно прогнило. Как там говорят, рыба гниет с головы? Я ничего не путаю?
– Вон отсюда! Документы будут готовы к концу недели – забирайте и идите на все четыре стороны!
– Так и сделаю. Дура я была, надеясь, что в вашей школе мой ребенок получит шанс на нормальное будущее – ничего кроме агрессии он здесь не видел. И ваше счастье, что я, наивная, никогда ничего не фиксировала, а то мы бы с вами сейчас в органах разговаривали.
– Хватит! Не смейте мне угрожать! До свидания, – директриса открыла дверь в приемную.
И в этот момент я увидела сына. Его скрюченное с рождения тело сейчас казалось еще более худым и немощным. Его ребра выпирали из-под рубашки. Он был похож на затравленного зверька, но они в нем видели угрозу. Мой маленький мальчик казался им агрессивным. Нежность, на мгновение сгладившая острые углы, сошла на нет, померкнув в новой вспышке злости и негодования.
– Вы никогда не шли нам на встречу. Вы знали, что Виталику неудобно носить эти чертовы рубашки, но ваша гребаная форма и устав, важнее всего. Я ненавижу вас!
Всю дорогу домой Виталик не проронил ни слова. Он смотрел себе под ноги и мычал, едва волоча ноги через снежные сугробы. Полина сидела в коляске, которую я с трудом толкала перед собой.
Я понимала, что мне нужно с ним поговорить, но слова застревали в горле. Я еле сдерживалась, чтобы не завыть от боли и обиды, от дикой несправедливости, связавшей меня по рукам и ногам, но я держалась. Я не могу быть слабой. Он не должен видеть моих слез.
– Сынок, ты не расстраивайся, все будет хорошо. Вот увидишь. Мама не даст тебя в обиду. Да, я помню, я просила тебя быть терпеливым и не обижаться на других, и я горжусь тобой. Слышишь?