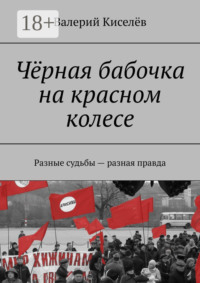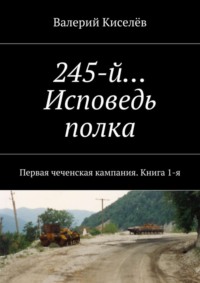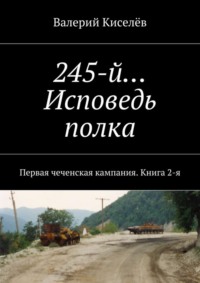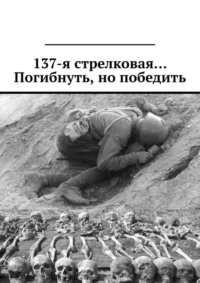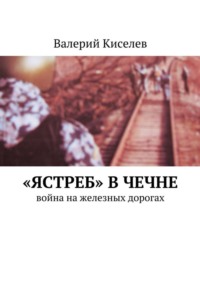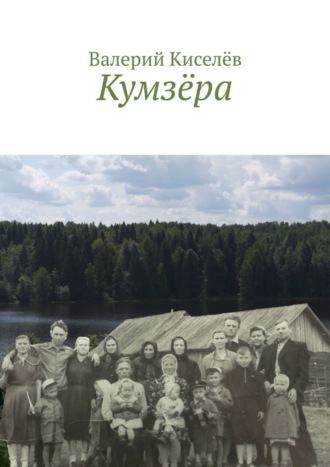
Полная версия
Кумзёра
Эх, посмотрели бы наши прадеды на своих горе-правнуков, как они их труд ценят… У нас дед хотя и неверующий был, но штаны спустил бы такому «художнику».
Церковь в те годы была не только важнейшим общественным местом, но и крупным хозяйством. В мае 2018 года мне довелось поработать с документами в Вологодском областном архиве, выписал много интересного…
Документы:
Из Клировой ведомости Флоро-Лаврской церкви Вологодской епархии за 1916 г.
«По штату: 2 священника, диакон и 2 псаломщика. Жалованья на всех из казны получали 931 рублей в год.
Доходов за 1916 год получено 1250 рублей.
Арендной платы за торговое помещение с крестьянина Михаила Горского получено 60 рублей в год.
Во время Крещенской славы зернового хлеба собрано на 25 рублей, в день святой Пасхи печеного хлеба собрано на 30 рублей.
Земли при церкви состоит: усадебной вместе с погостом 7 десятин, пахотной – 46 десятин 408 квадратных сажен, под Кумзерским озером – 9 десятин. Всего: 83 десятины 908 квадратных сажен.
Качество церковной земли – среднее.
Средний доход земля приносит: 20 рублей. По случаю дороговизны обработки притч пользовался частью земли.
В разные годы собственные здания: 3 деревянных дома, каменная сторожка, амбар, три ряда лавок, ряды лавок для ярмарочной и торговой потребностей. В пользу церкви поступило от торговли 340 рублей.
У священника Иоанна Образцова, диакона Павла Баженова, псаломщиков Владимира Прилежаева и Михаила Сергиевского дома свои, а священник Николай Попов живет в казенном доме.
Опись церковного имущества заведена в 1857 году, хранится в целости, проверена в 1860 году. Описи с метрических книг хранятся в целости с 1780 года.
В церковной библиотеке 225 томов. Церковные деньги в целости за ключом сторожа и печатью церковной. Недвижимая сумма состоит в кредитном учреждении, 2434 рубля 73 копейки, а билеты хранятся в целости и хранятся в церковном казнохранилище.
Имеющихся в приходе школ – 2-классная церковно-приходская и 4 земских.
В церковно-приходской (отпускается на содержание141 рубль 50 копеек и Кадниковское отделение отпустило 1020 рублей) в сем году обучается 76 мальчиков и 27 девочек.
Староста при церкви крестьянин Николай Кузнецов, с 5 декабря1916 года. Преосвященный в последний раз посетил приход в 1905 году».
Каким было состояние образования в Кумзере накануне революции…
Документы:
Сведения о начальной школе в приходе Кумзерской Фроло-Лаврской церкви на 1916 г.
Численность населения в приходе: мужчин – 2340 душ, женщин – 2501. Итого 4841.
Число детей школьного возраста (от 8 лет) – 237 мальчиков, 312 девочек, всего – 609.
Двухклассная ЦПШ открыта в 1908 г. Окончили курс в предшествующем учебном году – 16 мальчиков и 3 девочки. Состоят в школе с 1.1. 1917 г. 76 мальчиков и 27 девочек. ЦПШ содержится на средства Кадниковской уездной управы и церкви.
Земских школ – 4, содержатся на средства земской управы. Окончили 25 мальчиков и 6 девочек, состоят в школах – 125 мальчиков и 58 девочек.
Учителя 2-классной ЦПШ: учительница Александра Петровна Попова. Дочь диакона, 38 лет. Состоит 18 лет учительницей. В сей школе 6 лет. Девица.
Учитель Александр Аполлонович Филичевский. Сын крестьянина, 26 лет. Окончил 2-классную ЦПШ. Имеет свидетельство на звание учителя начальных народных училищ, аттестат на звание регента, учительствует 9 лет. В сей школе 4 года. Женат.
1-я Кумзерская земская школа. Учительница Анна Леонидовна Павлова. Дочь вологодского мещанина, работает 4 года, год – здесь. Девица.
2-я Кумзерская земская школа. Учительница София Филикисимовна Кораблева. 30 лет. Жена учителя сей школы Афанасия Кораблева. Взята на военную службу. Окончила епархиальное женское училище. Учителем состоит 7 лет, в сей школе 2 года.
3-я школа. Людмила Иоанновна Воскресенская. 19 лет. Дочь священника, 3 года работает. Девица. Окончила епархиальное женское училище.
4-я школа. Александра Павловна Попова. Дочь псаломщика, 18 лет. Окончила епархиальное женское училище. Работает год. Девица.
Есть в церковных документах и сведения о священниках в Кумзере по состоянию на 1916 год. Так о священнике Николае Попове написано:
«…36 лет, родился 13 декабря 1880 года. Имеет медали: в память 25-летия существования церковно-приходских школ и в память 300-летия царствования Дома Романовых. Из казны получает содержание 294 рублей, из церковной кружки за молебствия и поминовения – 165 рублей 60 копеек, за молебствия по приходу и другие требы – 201 рубль 60 копеек. Итого – 684 рубля 86 копеек.
Окончил полный курс Вологодской духовной семинарии в 1903 году, работал учителем в 3-классном Ембовском земском училище. 19 мая 1905 года рукоположен в священники.
С 1 сентября 1905 г. состоял заведующим и законоучителем во Флоро-Лаврской ЦПШ, до10 июня 1916 года. В 1916 году с 10 июня перешел на священническую вакансию в сей Кумзерской Флоро-Лаврской церкви, по прошению законоучительствует в 2-классной ЦПШ с 8 сентября 1916 г.
Жена священника Николая – Павла Алексеева, с 1884 года рождения, их дети: Александр 1906 года рождения, учится в ЦПШ, Лидия – 1907 года рождения, учится, Алексей – 1909 года рождения.
Священник Иоанн Образцов – родился 8 октября 1890 года. Получает от казны 294 рублей в год, плюс из церковной братской кружки 165 рублей 60 копеек, процент от вкладов – 15 рублей 66 копеек. За молебствия по приходу и другие требы – 27 рублей 20 копеек. Итого – 725 рублей 46 копеек. Окончил курс Вологодской духовной семинарии в 1916 г. Состоял псаломщиком. В августе 1916 года рукоположен в священники в сей Кумзерской Флоро-Лаврской церкви, законоучительствует в 1-м Кумзерском земском училище и 3-классном училище. Жена – Надежда, с 1988 года рождения.
Диакон – Павел Аполлинарьевич Баженов. Родился в 1874 году, из казны получает 47 рублей в год, процент капитала от вклада – 10 рублей 45 копеек, из церковной братской кружки – 10 рублей 40 копеек, за молебствия и другие требы по приходу – 139 рублей 40 копеек. Итого – 419 рублей 45 копеек. Кончил курс Вологодского духовного училища, поступил в псаломщики. В этой церкви с 1910 года, с 7-го января».
Есть в церковных документах и такая строчка о нем: «Под судом не был, взысканиям не подвергался, за штатом не был, без места не был». Чем-то напоминает партийную характеристику времен КПСС…
«Жена его – Людмила Евгеньевна, 41 год. Дети: Александра, 1899 года рождения, учится в 6-классном епархиальном училище, Аполлинарий – 1901 года рождения, учится в 4-классном духовном училище. Николай – 1902 года рождения, Константин, Иларья с 1906 года, Евгений – с 1908 г, Юлия – с 1911, Сергей – с 1915 года. В семье 8 детей!
Псаломщик Владимир Васильевич Прилежаев, 1892 года рождения. Из казны получает 98 рубля, с капитала проценты – 23 рубля, из церковной братской кружки – 55 рублей 20 копеек. За молебствия и другие требы по приходу – 67 рублей 20 копеек. Итого: 23 рубля 63 копейки. Плюс состоит учителем пения в1-м и 3-классных земских училищах. В семействе жена Елисавета Петровна с 1891 года рождения и сын Василий 1914 года рождения.
Исполняющий должность псаломщика – Михаил Александрович Сергиевский, 1898 года рождения. Из казны получает 28 рублей в год, процент с капитала – 5 рублей 23 копейки. Из церковной братской кружки – 55 рублей 90 копеек. За молебствия и другие требы по приходу – 12 рублей 90 копеек, от земли – 5 рублей. Итого: 241 рубль 83 копейки в год.
Служил псаломщиком по окончании 2-классного Тотемского духовного училища. Жена Юлия Николаевна, 1892 года рождения. Сын Сергей 1915 года рождения. В отлучке, на военной службе.
Заштатные и сиротствующие: священник Павел Михайлович Левитский, 62 лет. В 1887 г награжден набедренником, в 1897 г – скуфвею, 1 марта1908 года – орденом Святой Анны 3-й степени, и 4 сентября 1913 года – камилавкою. За штат уволен с 8 января 1896 г, к сей церкви – с 1890 г. Тесть священника И. Образцова. Жена – Елисавета Ионовна, 1859 года рождения. Их сын Владимир, 1891 года рождения, учится в Варшавском ветеринарном институте (в Новочеркасске) на средства отца.
Бывшего сей церкви священника Стефана Писарева дочь, девица, Лариса Стефанова Писарева, 52 лет. Отец состоял священником при сей церкви с 1877-го по 1894 год.
После умершего сей церкви псаломщика Иринея Воробьева, сын Александ 24 года, уволен из 3-го класса Вологодского духовного училища, состоит на военной службе. Отец его состоял псаломщиком при сей церкви с 1884 по 1894 год. В отлучке.
Просфорная сей церкви псаломщика вдова Глафира Кафинская, 53 лет, на должности состоит с 7 июня 1908 года и проживает в церковном доме, получает от церкви 50 рублей в год и от приходского хлебного сбора на 50 рублей.
После умершего сей церкви псаломщика Павла Алаева сын Николай, 20 лет, проживает при матери, состоящей в замужестве за крестьянином (и получает пособие от местного попечительства 10 рублей в год). В отлучке. Отец состоял псаломщиком при сей церкви с 1884-го по 1897 год».
Приходов в Кумзерской волости было два. По части священника Николая Попова:
в селе Кумзеро: дворов – 4, мужчин – 11, женщин – 8.
– Деревня Максимовская – 27 дворов, 65 мужчин, 80 женщин. (Далее цифры – соответственно – дворов, мужчин и женщин. Данные на 1916 год.)
– Ворсенская – 8 – 20 – 19
– Марковская – 11 – 33 – 39
– Трушовская – 18 – 43 – 40
– Павшиха – 25 – 58 – 58
– Дуровская – 26 – 42 – 70
– Киевская – 22 – 59 – 56
– Глазиха – 24 – 58 – 70
– Вичаги – 15 – 40 – 38
– Крюковская – 12 – 33 – 30
– Терениха – 19 – 53 – 55
– Жуковская – 12 – 38 – 43
– Опуринская – 20 – 45 – 50
– Захаровская – 18 – 56 – 56
– Лопатино – 6 – 20 – 15
– Тимошинская – 14 – 39 – 38
– Пашинская – 24 – 62 – 60
– Пожарище – 20 – 56 – 70
– Бильская – 15 – 55 – 68
– Сиренская – 10 – 39 – 46
– Устрешная – 12 – 50 – 53
– Цариха – 22 – 83 – 70
– Давыдовская – 12 – 31 – 40
– Анфалиха – 16 – 43 – 41
Ведомость о бывших и не бывших на исповеди и у святого причастия в 1916 году по приходу Кумзерской Флоро-Лаврской церкви
«Исповедальная ведомость за 1917 год»
Не были на исповеди.
Духовенство: 9 мужчин, 7 женщин.
Военные: 200 мужчин, женщин – 244
Статские – 4 – 2
Мещане – 7 – 14
Крестьяне – 535 мужчин, женщин – 854. Не были на исповеди: 184 – 179 – 319 – 32
Итого: 755 – 1121
А всего: 1258 мужчин и 1332 женщин, итого – 2590. (Это, наверное, общее количество населения в этом приходе Кумзера в 1917 году)
Еще одна «Исповедальная ведомость Кумзерской Флоро-Лаврской церкви Кадниковского уезда за 1917 г».
– Почетные граждане. Вдова Александра Павловна Черникова, 64 года. 5 детей.
– Мещане. Дер. Захаровская. Вдова Проничева Павла, дочь Калифения Автоновна Проничева, 42 года. Дочь Параскева.
– Дер. Глазиха. Ольга Васильевна Стратоникова, 70 лет. 5 детей. Дети Евфалия, Калифения.
– Военные и их домашние. Деревня Максимовская. Василий Иванович Румянцев, 74 года. Лонгин Федорович Верещагин, 70 лет. Жена Елизавета, дети Василий, Екатерина, Федор, Александр.
– Дер. Киевская. Федор Константинович Шитиков, 48 лет. Жена Дарья. Дети Константин, Дмитрий, Александр. Андрей Стефанович Шитиков, 46 лет. Жена Калифения, дети Стефан, Алексей, Августа.
– Дер. Марковская. Павел Вас Шадрунов, 68 лет. Жена Афанасия Сергеевна. Дети Евфалия, Пелагея.
– Дер. Трушовская. Вдова Евдокия Григорьевна Фабрикова, 48 лет.
– Дер. Павшиха. Екатерина Дормидонтовна Спирова, 69 лет. Сын Илья Васильевич Спиров, 25 лет.
– Дер. Дуровская. Вдова Анна Григорьевна Титова, 69 лет. Сыновья Михаил Андреевич, 36 лет. Жена его Анна Васильевна, 29 лет. Дети дочь Анфиса – 8 лет, Александр – 6 лет, Анна – 4 года. Александр Андреевич Титов, 49 лет. Жена Наталья Васильевна, 47 лет. Дети: Павел – 21 (в отлучке 2 года), Федор – 15 лет, Сергей -9, Андрей – 7, Екатерина – 6, Анна – 2 года.
– Дер. Терениха. Стефан Доруничев, 54 года. 6 детей.
– Дер. Цариха. Михаил Григорьевич Ухов, 39 лет (в отлучке 3 года), жена его Серафима Афанасьевна, 29 лет. Вдова Александра Емельяновна Ухова, 42 года. Зять Александр Мокеевич Потемкин, 42 года. Жена его Мария, 40 лет. Дети: Александра – 18, Августа – 17, Михаил – 16, Анатолий – 13, Авинер – 11, Григорий – 9, Анна – 4 года.
– Военных семей – 114, в них 325 мужчин, 315 женщин.
Крестьяне:
1. Дер. Максимовская. Вдова Анна Косьмина Верещагина, 74 года. Сын Федор Федорович, 50 лет. Дети Хиония, Марина. Евстолия Круглова, 77 лет. Параскева, Ливерий, Сивирьян, Иулия.
2. Дер. Киевская. Матрона Сивирьяновна Шитикова, 63 года. Каллиста, Серафима, Евфимий, Агния.
Шелопины – Арсений Осипович, 29 лет (в отлучке 1 год), Александр Осипович, 41 год.
3. Дер. Марковская. Николай Варфоломеевич Телегин, 61 год. Жена – Евстолия.
4. Дер. Трушовская. Стефан Панфилович Кузнецов, 57 лет.
5. Дер. Павшиха. Федор Александрович Спиров, 34 года. Жена Юлия Ермолаевна, 34 года. Дети – Анна, 14 лет, Александр – 12, Георгий – 4. Пармен Иванович Кичигин, 47 лет.
6. Дер. Дуровская. Девица Параскева Платоновна Петрова, 48 лет. Дмитрий Петрович Платонов, 54 года. Арсений Михайлович Маннов, 36 лет, Илья Михайлович Маннов – 27 лет, Дмитрий Михайлович Маннов – 42 года, Августа Михайловна Маннова – 13 лет.
7. Дер. Терениха. Доруничевы.
8. Дер. Жуковская: Калмыковы, Корпусовы, Шадруновы, Русаковы, Румянцевы.
9. Дер. Захаровская: Проничевы, Гусевы.
Подписал священник Иоанн Попов.
При его приходе 417 дворов, в них 1258 мужчин, 1332 женщин, всего 2590 человек.
В конце ведомости запись: «Раскольников и других сектантов нет, противящихся святой церкви нет, находящихся под укрывательством – нет».
Подписали ведомость так же диакон Павел Баженов, псаломщик Владимир Прилежаев.
Судя по тому, что у некоторых упомянутых приписано «В отлучке», они на исповедь в том году не ходили.
Как проходила исповедь у ребятишек, лучше Василия Белова разве опишешь в его «Плотницких рассказах»:
«Помню, Великим постом привели меня первый раз к попу. На исповедь. Я о ту пору уже в портчонках бегал. Ох, Платонович, эта религия Она, друг мой, еще с того разу нервы мне начала портить. А сколько было других разов. Правда, поп у нас в приходе был хороший, красивый. Матка мне до этого объяснение сделала: Ты, – говорит, – Олешка, слушай, что будут спрашивать, слушай и говори: «Грешен, батюшка!» Я, значит, и предстал в своем детском виде перед попом. Он меня спрашивает: «А что, отрок, как зовут-то тебя? – «Олешка», – говорю. «Раб, – говорит, – Божий, кто тебя так непристойно глаголеть выучил? Не Олешка, бесовского звука слово, а говори: наречен Алексеем» – «Наречен Алексеем». – «Теперь скажи, отрок Алексей, какие ты молитвы знаешь? Я и ляпнул: «Сину да небесину!» – Вижу – поп говорит, – глуп ты, сын мой, яко лесной пень. Хорошо, коли по младости возраста. Я, конечно, молчу, только носом швыркаю. А он мне: «Скажи, чадо, грешил ты перед Богом? Морковку в чужом огороде не дергал ли? Горошку не воровывал ли?» – «Нет, батюшка, не дергал». – «И каменьями в птичек небесных не палил? – «не палил, батюшка»
Что мне было говорить, ежели я и правда по воробьям не палил и в чужих загородах шастать моды у меня не было.
Ну, а батюшка взял меня за ух, сдавил, как клещами, да и давай вывинчивать ухо. А сам ласково эдак, тихо приговаривает: «Не ври, чадо, перед Господом Богом, бо не простит Господь неправды и тайности, не ври, не ври…»
Я из церкви-то с ревом: ухо как в огне горит, да всего обиднее, что зря. А тут еще матка добавила, схватила ивовый прут, спустила с меня портки и давай стегать. Прямиком на морозе. Стегает да приговаривает: «Говорено было, говори: грешен Говорено было, говори, грешен!»
Не представляю, как ходили, да и ходили ли вообще на исповедь мой прадед-кузнец Фёдор Киселев, и уж тем более его старший сын Иван, красноносый.
Но и работы священникам хватало: столько народушку надо было опросить на исповеди, даже если и не каждый день, то по несколько десятков душ. В очереди что ли бабы да мужики стояли, чтобы в грехах своих покаяться…
Сейчас же из окна нашего дома церкви не видать – построили на горе зерносушилку, она и заслонила. Как уж бабушка тогда тужила… Да и в церковь, как раз на Троицу, ударила молния, что и купол медный сгорел, а самый большой крест в озеро улетел. До конца 60-х годов стояла у церкви и колоколенка, помню еще и звон ее – снесли, как попа не стало. Поп был, да какой-то непутевый, его и старухи называли за глаза не по имени, а Бесшишим. Посадили, что кого-то зарезал по пьянке, нового же не прислали. Что ж тогда с неверующих правнуков спрашивать…
Бабушка была искренне верующая, квашню и то всякий раз перекрестит, худых слов никогда не говорила. Если и надо ей деда обругать, так скажет лишь: «Ну тебя к этому!». «Этот» у нее означал черта, дьявола, сатану, водяного. Даже слов «к лешему тебя!», обычных у местных баб, и то никогда от нее не слышал. И встанет с молитвой, и печь затопит с молитвой, и спать нас маленьких уложит – всегда перекрестит. Только и помню сейчас: «Андели господне, свичушко светлое, спи со Христом…». Сейчас иная мать-атеистка своему младенцу скажет: «Спи, гад, пока не врезала…».
Во всех углах дома были иконы, это сейчас отец снял, а то какая-нибудь старуха в избу войдет – всегда на передний угол сначала взглянет да перекрестится. Сколько у бабушки слез было, как отец начнет иконы снимать – каждое лето, как же, коммунист. Один раз он из переднего угла начал было снимать, да так руку об стекло рассадил, что крови было, как из барана. Как ей было после этого не уверять, что это господь-бог наказал его.
Молитвы все знала до самой смерти. Мы поражались – слово в слово. Есть у нас такой ежегодник церковный, специально проверяли. Внуков забыла, как зовут, все же девятый десяток, меня так как и не назовет – Виря, Серёжа, Вовик, всех переберёт, Невестку старшую забыла, как зовут – жила у нас последние полгода перед смертью, так как-то спросила меня тихонько: «Батюшко, а какая это баба-то толстая все по избе ходит?» – «Да что ты, бабушка, это же мать наша, Зоя…» – «Повно ты-ы, да Зоя не такая и была…».
Весь мир у бабушки за деревней был для нее ЗаХаровской (райцентр у нас Харовск). Спросишь, где была, зная, что летала в Сибирь к младшему сыну – « Да в ЗаХаровской, в большом дому». Последние полгода жизни, забыла – какой, сейчас и год, не помнила месяцев, так тосковала по деревне, что то и дело просила: «Отведи ты меня, андели, домой». – «Да что ты, бабушка, это же на поезде ехать», – « Да хоть в какую сторону идти – покажи, я дойду». До того дотосковала, что пришлось отцу ехать с ней в апреле, в самую распутицу. Сама дошла пешком восемь километров до деревни, и успокоилась: « Теперь можно и помирать, в своем дому, слава тебе, господи» Недолго и пожила дома. Лежат теперь вместе, на год всего и пережила своего старика. Умирала бабушка тяжело, мучилась, а вот дед – легко, не болел. Выпил после бани лишнюю стопку, с головой стало плохо – и все, теперь уж действительно « все хорошо, все в порядке».
Из дневника отца за 1986 год:
«…В 12 часов дня 27 мая Зоя приехала. Я только хотел сходить в Кумзеро, но пошел дождик и я, уже собравшись идти, разделся и лег отдохнуть. И вдруг кто-то стучится. Оказалась Зоя. Приехали они вместе с Харовской, все вместе, три сестры – Зоя, Лина и Галина. А также Василий Кузьмин и Димка (Лины внук). Мать была ещё в сознании. Она узнала Зою в лицо и шепотом сказала: «Ну, слава Богу, дождалась, приехала». И ровно через сутки, в 12:10 28 мая мать скончалась на глазах у Зои. Я был дома, но, плохо спавший ночь, прилёг отдохнуть, немного вздремнул. Как умерла мать – я не видел.
Сразу пошёл позвонил в медпункт, позвал тётю Нину из Дуровской. Затем пошел в Кумзеро, подал телеграммы братьям Сергею, Вире, ребятам, и Вере в Сокол. Выписал в сельсовете 10 бутылок вина. Пришёл домой, а мать уже лежит на диванчике, омыта и одета. Обмывали тётя Нина, Евстолия, помогали две Зои – моя и Фёдора. Сходил в Оденневскую, в магазин. Водки не оказалось, то пришлось взять то, что было, т.е. 10 бутылок яблочной наливки и 5 бутылок сухого.
Гроб делали А. П. Перов, Фёдор и Вася Титов. Я 29-го решил все вопросы, т.е. взял медицинское заключение о смерти матери и выписал в сельсовете свидетельство о смерти. 29-го на похороны приехали Сергей, Ия и Саша (привёз Володя), а также Виря из Сокола. Виря из Красноярска, конечно, не приехал и телеграммы не прислал.
Могилу копали Фёдор, Василий Кузьмин и Вася Титов. Сделали всё хорошо, и похороны, и поминки. Провожали все семёновские женщины, приходили и с других деревень – Дуровской, Павшихи, Оденневской. День был тёплый, солнечный. Похоронил мать рядом с отцом. Так закончила жизненный путь моя мать Киселёва Александра Петровна. Прожила она 82 года и 43 дня. Сейчас, как мы с ней приехали в деревню, прожила полтора месяца. Она каждый день в последние дни, как подойду к ней, то и говорит, смотря на меня: «Андели ты мой, свичушка ты мой, красное моё солнышко». После смерти матери постоянно ощущаю, чувствую, что-то чего-то как будто не хватает. И образ всё время стоит в глазах».
Первое лето мне не верилось, что их нет. Как это – дедова кровать, а его на ней нет и никогда не будет, не услышишь его утром в воскресенье: «Подай-ка ковшик… Да давай и второй», по утрам не услышишь бабушкиного кряхтенья у печи. Не едать больше ее рогатушек и блинов, а уж на блины она была мастерица, таких теперь не поесть. Даже правнука, моего сына, так приучила, что первым блиношником в семье стал.
В гостях у деда с бабушкой. 1960 год.
Прожили они жизнь по нынешним временам долгую. Даже, как это иногда чувствовалось – устали они жить: год за годом, одно и то же – печь, чай, пироги, окошко, изредка баня, слабость. Дед так последние лет десять говорил перед расставаньем на зиму: «Остатний год живу…». Заплачет… Дожили до правнуков, чем дед был очень доволен. Интересно все же, когда за столом сидят четыре поколения мужиков – один от одного. Правнука дед любил как-то особенно сдержанно, да он и так то никому никогда свою любовь не показывал. Скажет только, когда правнук Вадим за обе щеки кашу уплетает свое «угу» довольно, глаза сделаются печальными.
Однажды спокойно так, когда Вадик лазил по нему, взял его в руки, да и брякнул: «А видно не жилец». – «Это почему же?» – испугался я, – «Да грузён больно». Это, наверное, примета была, что тяжелые младенцы не живущие. Но когда правнук заболел, то испугался дед больше всех. Дело тогда действительно могло окончиться плохо, у Вадика уже и глазки закатывались. Пробежал я в тот день до медпункта восемь километров минут за сорок, и фельдшер, Валя Копосова, успела вовремя, а то и был бы Вадик «не жилец».
Кумзерское озеро
Когда-то у церкви было старое кладбище, сейчас – просто луг, хоронят в другом месте, а я еще помню могильный камень с надписью: «Здесь покоится капитан Купреянов», это был местный помещик.
Трудно поверить, что прадеды мои были крепостными, бабушка еще помнит, как ее бабушку помещица вицами порола, за то, что ягод мало собрала. Дед же не без гордости уверял, что их род крепостными не были никогда. Может быть, и так, потому что на Севере многие крестьяне числились государственными. Сколько я донимал деда, чтобы вспомнил всех своих прадедов, да удалось дойти только до восьмого колена, и то – все же прапрапрапрадед был Иван Семенович, это точно. А в честь Семена, по преданью, и деревня наша называется – Семеновская. Он, наверное, был ее основатель, хотя это всего лишь начало 19-го века, а Кумзеро появилось гораздо раньше, еще в 17-м веке здесь стояли деревни. Бабушка помнила рассказ своей прабабки, что нашей местностью проходил какой-то польский отряд, в деревне Максимовской тогда много людей на колы посажали, а у Лапача зарыли что-то. Место это, Бубенёк, холм среди поля у речки, мы в детстве пытались раскопать, да терпенья не хватило, и бросили.
Клюшин Константин Афанасьевич
Киселев Александр Федорович
Читаю, в надежде найти свои родовые корни, в Вологодском областном архиве Сложно разбирать старинный рукописный текст, но понятно, что записи – у кого и кто родился, кто умер. «Метрическую книгу Флоро-Лаврской церкви за 1762 г.»
Вот несколько примеров: «Умер Архип Никитин, деревня Глазиха, 5 лет.
Того же года умерла крестьянка деревни Анфалиха Анна Прокопова, 65 лет.
Умер крестьянин деревни Павшиха Тимофей (по отчеству – не разобрать, – авт.) 45 лет».
Всего в 1762 году в Кумзере умерли 12 человек. В брак вступили 8 человек, родилось – 22 ребенка.