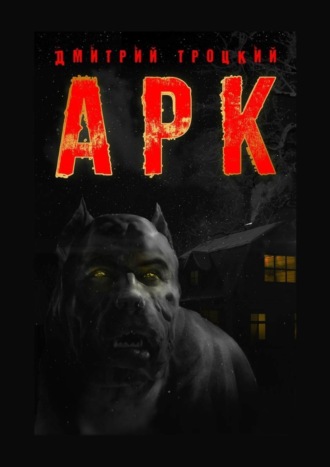
Полная версия
АРК
– Разрешите, товарищ Постышев?
– Входите, Иван Петрович, – Постышев усмехнулся, – ну как вам арестовывать маршалов? Понравилось?
– Порядок, Павел Петрович, – майор снял фуражку и вытер со лба пот, – взяли мы его все-таки. Он ведь как? Сопротивление хотел оказать, палить начал. Ну, мы-то, натурально, ответный огонь открыли. Так он что? Застрелиться, значить, решил.
Постышев неподдельно удивился:
– Тухачевский стрелял по вашим сотрудникам и не попал?
– Профессиональная подготовка, как учит нас, понимаешь, товарищ Ежов.
– Орлы, орлы. Сталинские соколы, – прищурившись, проговорил Постышев, внимательно вглядываясь в округлые женские черты лица ненавистного ему майора.
«А ты ведь сдрейфил, Попашенко. Сильно сдрейфил. Не знаю, что там у вас случилось. Просто по роже твоей свинячьей вижу, как до сих пор от страха трясешься».
Вслух же спросил:
– Где сейчас Михаил Николаевич?
– Мои ребята его это, в гражданское переодевают. Синяки, значить, рихтуют. Надо чтобы, понимаешь, все пока тихо было. Коли увидит вражину кто ненароком, – жди беды.
– Побыстрее заканчивайте. Сажайте в машину и дуйте прямиком в Москву, – жестко отчеканил Постышев. – В пути глаз не спускать, максимальная охрана. И сделайте так, чтобы его и вправду никто не увидел, пока он на нашей земле. Не хватало нам только для полного счастья солдатского бунта.
Финляндский вокзал—Борисова Грива, 1942 год
Поезд стоял под парами. Едва они успели вскочить в вагон, как состав резко дернулся и медленно двинулся прочь из осажденного города.
Аркаша сел на свободную скамейку. Хотел посмотреть в окно, но оно заледенело, не отскребешь. Какое-то странное предчувствие жило в нем, будто покидает этот город навсегда.
На Финляндском вокзале, после того как их пропустил кордон охраны, в дорогу дали немного хлеба. Теперь Аркаша сжимал заветную пайку в варежках. Голод когтями рвал живот не первый месяц, и есть хотелось всегда. Но сейчас его охватила какая-то апатия.
Бобка и мама остались далеко позади, в другом мире. Он остро чувствовал вину, особенно перед Бобкой. Как можно было уехать без брата? Бросить в этом страшном мертвом городе? Аркашу начало знобить. Отец присел рядом, обнял и сказал:
– Замерз? Подожди, сейчас надышат в вагоне, станет немного теплее. Да и ехать то нам до Борисовой Гривы от силы часа три. Скоро будем на Ладоге.
– Это не тот холод, папа… Это – другое.
Отец помолчал, прижал покрепче.
– Из всех возможных решений выбирай самое рациональное. Сегодня по-другому нельзя.
– Если бы ты выбрал не самое рациональное, а самое доброе решение…
– …то к весне мы все умерли бы от голода.
Это была жестокая правда. Умом Аркаша это понимал. Но ощущение гадливости от самого себя наваливалось тяжким грузом.
Паровоз полз медленно, натужно хрипя струями черного дыма. То и дело останавливались, обычно посреди поля. Там рыли большие траншеи, куда без разбора бросали тела пассажиров, не доехавших до конечной станции.
По стенкам вагонов начинался стук. Снаружи кричали:
– Трупы есть?
Иногда кто-то с трудом поднимался, оттаскивая своих соседей, умерших в дороге, к дверям. Покойников принимали чьи-то крепкие руки, и состав медленно двигался дальше.
После долгого молчания Аркаша, наконец, решился задать вопрос, который его мучил всё это время:
– Пап, почему тебе дали только два места на эвакуацию? Почему мы не могли уехать все? Ведь вагон полупустой, поместились бы и мама, и Бобка.
– Задумайся на мгновение, – тихо ответил отец, – сколько в Ленинграде осталось детей? И не просто детей. Сирот, у которых умерли от голода и холода родители. У которых все полегли на фронте. У которых все сгинули во время бомбежек. Десятки тысяч. И неужели ты считаешь, что те, кому повезло оказаться в детском доме, а не умереть на улице, питаются там пряниками и конфетами? Они, как и все мучаются от дистрофии. Мы о такой болезни до войны и не слыхали…
– Но ведь Бобка же такой маленький, – перебил его Аркаша, – и места бы много не занял.
– Дослушай меня. Тут дело не только в том, есть место или нет. Он слишком слаб, чтобы перенести дорогу, как и тысячи сирот в приютах, о которых я говорил.
– Но разве он так плох, что не мог бы ехать с нами тут, в поезде?
– Погоди сынок, это только начало, ты еще не представляешь, что будет дальше, – он помолчал и, привычным жестом поправив рукой кулон на шее, добавил, – возможно, что как раз мы с тобой сделали неверный выбор, и надо было остаться в городе, не слушая ничьих советов.
К концу дня разговоры в вагоне стихли. Изредка кто-то начинал тихонечко стонать, или почти беззвучно плакали дети.
Несколько раз останавливались надолго, пережидая бомбежки и артобстрелы. Иногда над поездом на бреющем полете проносилась вражеская авиация, раздавались грохочущие пулеметные очереди. При звуках летящего самолета люди уже привычно пригибались, чаще просто падали на пол.
Некоторые потом не вставали.
До Ладожского озера удалось добраться только спустя почти два дня. За это время мороз в обледенелых вагонах, которые в мирное время цепляли летом к пригородным поездам, успел собрать свою жатву.
Еды не было. Пайка, которую беженцы получали на вокзале, давно уже кончилась. Младенцы, плакавшие в начале пути, замолкали навсегда.
Слабые не выдерживали.
Лишь тот, кто зубами цеплялся за жизнь и был готов бороться и дальше, собрав всю свою волю, все силы в кулак, имел призрачные шансы выбраться из ада.
Оглядев почти опустевший вагон, Аркаша понял, почему так мало с ними детей. Наверное, у них в блокадном Ленинграде и вправду больше шансов.
Москва, 1942 год
– Неужто такие небожители спустились в нашу скромную обитель? Я думал, что вас уже расстреляли, милейший Юрий Альфредович.
Начальник 4 Управления НКВД Мельников позволял себе весьма специфические шутки, но те, кто с ним работал давно, привыкли к этому.
Правда сейчас, в кабинете на Лубянке, напротив него сидел не подчиненный, а один из самых таинственных людей, о которых было принято говорить лишь шепотом. Да и не знал никто толком ничего, одни лишь слухи.
А вчера поступил сверху приказ. Выяснилось, что «Хранитель», как за глаза называли Кнопмуса, идет, казалось бы, на обычное, пусть и сложное задание, которое можно поручить любому квалифицированному разведчику.
Мельников не понимал происходящего, потому и пытался шутить.
– Собственно, Николай Дмитриевич, это не стало бы для меня проблемой. Расстрелять можете хоть сейчас. Вы, наверное, в курсе, что некоторые уже пытались. И в курсе, чем это закончилось. Но вернемся к нашим делам.
Кнопмус протянул запечатанный сургучом конверт хозяину кабинета.
– Итак, Лаврентий Павлович просил поставить в известность: необходимо усилить гарнизон, охраняющий известный вам спецобъект, войсками НКВД. Это по вашему профилю. Тут – данные о периметре. И еще. Я привез обещанный подарок для маршалов. Вручите лично.
– Ну давайте уже, хвастайтесь, я весь внимание.
– Взгляните, – сказал Кнопмус и достал из плащ-палатки новейшей разработки, с двухсторонним камуфляжем, маленькую коробочку, – пока, правда, только два экземпляра.
Мельников трепетно положил ее на крупную мозолистую ладонь, открыл крышку. Внутри лежало два серебристых кулона.
– А почему в виде растений?
– Не просто растений, Николай Дмитриевич. Вербена и рута. Хотя вам вряд ли о чем-то это скажет.
Начальник разведки взял в руки одну из веточек.
От серебристых соцветий ток пробежал по ладоням, запястьям и выше. Закружилась голова и на мгновенье подступила тошнота. И тут же, резко, сознание неимоверно расширилось, и из глубин Вселенной пришло ощущение собственного безмерного могущества. Все слабое человеческое покинуло тело. Он готов был рушить горы и создавать цунами, вызывать засуху и творить всемирный потоп.
Но вдруг пришел холодный мертвенный свет, затопивший все перед глазами, и словно презрительно усмехнувшись, вдруг исчез, забирая всю силу. На мгновение показалась луна, но тоже пропала.
Остались лишь полумрак кабинета и скуластый собеседник.
– Страшная сила, Юрий Альфредович, – прошептал Мельников.
– Пробирает?
– Да.
– Положите на место и не трогайте больше. Штука опасная, засасывает, поверьте.
С трудом, превозмогая себя, Мельников вернул медальон в шкатулку и закрыл её.
– Всё-таки партийная дисциплина великое дело, – заметил Кнопмус. – уберите и забудьте. Сами знаете, что это не для вас. Но я рад, что смогли справиться с искушением, не каждому дано.
Он по-свойски взял со стола хозяина кабинета папиросу и спички, закурил.
– Еще такой момент. В моё отсутствие будете контактировать с Зафаэлем, знаете его?
Мельников кивнул.
– Ну и славно. Настоятельно прошу выполнять все, подчеркиваю, все просьбы, какими бы странными они не казались. Лаврентий Павлович вас проинформировал?
– Юрий Альфредович, вы меня обижаете. Разве я когда отказывал Хранилищу в чем-либо? Да и потом, директива мне спущена, все просьбы-требования Зафаэля будут в приоритете, не сомневайтесь.
Он тяжело вздохнул и словно прыгнул в омут.
– Меня сейчас другое беспокоит, – сказал Мельников, покручивая задумчиво в руках шкатулку, – вы уж простите, но стоит ли кому-то такую вещь отдавать? Я не спрашиваю, почему себе их не оставили, но – Жукову? Рокоссовскому?
Кнопмус холодно посмотрел на Мельникова.
– Хотите проиграть войну?
– Да ведь не в этом дело, – воскликнул тот, – дело в несоизмеримой мощи прибора. Под силу ли человеку справится с ним? Не случилось бы повторения истории с Тухачевским.
– Мои люди держат под контролем ситуацию, не волнуйтесь, – заверил Кнопмус. – К тому же, прибор ограниченного действия, задача его исключительно тактическая. А стратегия, как и всегда, остается за нашим вождем и учителем, великим Сталиным.
– Мы здесь одни и кабинет не прослушивается, так что можете без этого обойтись.
– Я не понимаю, о чем вы.
Они помолчали. Мельников хмуро глядел на Кнопмуса, тот безмятежно развалился на стуле и разглядывал его своими маленькими глазками, как занятное насекомое под микроскопом.
Понятное дело, что комиссар государственной безопасности не привык к подобному обращению.
– Не доверяете?
– Я не доверяю никому, – нарочито серьезным тоном, будто диктор на радио, сказал Кнопмус. – Практика показывает, что тот, кто вчера был другом, завтра оказывается врагом и предателем. Не замечали?
– Что ж, ладно. Не хотите откровенно говорить…
– О какого рода откровенности идет речь, товарищ Мельников? У нас с вами есть работа, которую нужно выполнять. Мы солдаты партии, не более того.
Пытаясь скрыть неловкость ситуации, Николай Дмитриевич начал копаться в лежащих на столе документах.
– Не доверяете. Что ж, воля ваша. Тогда пройдемся по маршруту, – найдя планшет, развернул на столе карту с многочисленными пометками. – В первую очередь отправитесь в Вологду, где под видом врача предстоит…
Дорога Жизни, 1942 год
Шофер им попался молодой, злой, неумелый. Подгоняя беженцев матюгами, он грозился ссадить всех, если они не поторопятся – надо выполнять план. Наконец тронулись.
Машины шли колонной, и их грузовик, который постоянно глох, в итоге едущие сзади сдвинули с дороги бортами.
Дул ледяной ветер.
В открытом кузове Аркаша понял, насколько все-таки было хорошо в вагоне поезда. Казалось, что ветер продувает тебя насквозь, унося с собой последние остатки тепла.
Когда мотор все-таки удалось завести, водитель повел грузовик в обход основной колеи, которую проложили для машин. Но в сумерках, видимо по неопытности, заблудился, угодил в полынью.
Вокруг быстро прибывала вода, колеса буксовали. От испуга все попрыгали за борт, оказавшись по пояс в ледяной воде.
– А ну-ка, скидавай вещи, скотобаза, – заорал из кабины шофер, – сейчас потонем все к хренам собачьим.
– Ох, ведь дристанул-то малый, – зло сплюнул справа от Аркаши какой-то мужик. – Боится под трибунал попасть, сволочь криворукая.
– Язык попридержи, – сквозь зубы ответил ему трясущийся от холода Натан Залманович, – на этих машинах каждый день сотни жизней спасают. А кому баранку крутить? Все давно на фронте. Вот и берут…
– Я чё сказал, живо вещи за борт! – снова закричал шофер.
Люди, плача, полезли в кузов выкидывать свой нехитрый скарб – то единственное, что смогли вывести из блокадного города.
– Ну а ты, пархатый, фигли стоишь? Вещи скидывай, – шофер вылез из кабины и теперь смотрел, насколько глубоко они застряли, – глухой что ли?
– У нас только вещмешки, – глухо ответил отец.
– Не нажил, значить? – Водитель хмыкнул. – Тогда давай за борт берись и толкай, не стой как статуя.
Выбросив вещи, начали толкать. Проку от этого было не много: обтянутые кожей скелеты с трудом передвигались сами. Вытащить машину казалось для них непосильной задачей.
Но все же воля к жизни была сильнее слабости тела. Под стоны пассажиров и визг буксующих колёс – выбралась из полыньи.
Медленно двинулись в сторону далекой цепочки огней.
Вскоре мокрая одежда покрылась мелкими ледышками. Люди жались друг к другу, пытаясь хоть как-то согреться.
Беженцы в кузове молчали, сберегая тепло. Лишь рвано гремел в ночи мотор полуторки, да заупокойно завывала вьюга.
Через полтора часа их, полумертвых, выгрузили на станции Жихарево. Многие уже не могли идти, и работники эвакопункта на руках снимали людей с кузова, унося в бараки.
Несколько тел так и осталось лежать в грузовике, застыв, словно ледяные статуи. На них никто даже не оглянулся.
Москва, 1937 год
Его уже перестали бить. За эти несколько дней поняли, что бесполезно. Он упорно молчал и, несмотря на показания соратников, отрицал всё.
Единственный раз зло усмехнулся про себя, когда въезжали ночью в распахнутые ворота Лубянки: «А Сталин не обманул. Вернул-таки меня в Москву».
Главное – не знал, чего ждать еще. Арестованы все, с кем планировали заговор против спятившего тирана. Все, кому доверял и кого ценил.
Сам пыток не боялся, как не боялся и смерти. Но обидно было до слез, что так бездарно проиграна главная битва.
Еще с раннего детства – не видел иной цели, кроме карьеры военного. Армия была для него жизнью. И он сам был душой армии.
Он был – воплощение устава. Он был – воплощение тактики и стратегии. Он был – воплощение храбрости. Он был – командир, за которым беспрекословно шли даже на смерть.
И вот теперь, сидя в камере, напряженно думал: «Где же ты мог ошибиться, битый-перебитый маршал? Неужели это просто интриги Ежова? Но тогда откуда показания всех тех, с кем готовили переворот? Почему так точно угадано время ареста? Что вообще происходит?»
Ответов не было, начинал злиться на себя все больше и больше. Единственное, что его всегда раздражало, так это собственное непонимание поставленной задачи. Будто и не офицер, а деревенщина, не знающий с какой стороны за винтовку браться.
…Тот, кого звали великим учителем и вождем народов, был пьян. Такого не случалось уже много лет, он не позволял себе ни малейшей слабости, но сегодня…
Сегодня же отчетливо понял, что армии нет. Его руками уничтожен весь цвет командования, все те, кто пришли на волне революции.
«А что важнее: лояльность или сила?»
Налив еще вина, молча уставился в окно своей дачи. Охрана не одобряла, когда Иосиф Виссарионович отодвигал тяжелые шторы, хотя сам Сталин прекрасно понимал: организовать покушение могут лишь такие, как Тухачевский или Уборевич. Никаких неведомых «врагов народа» нет и быть не может.
«Скоро война. А ты, какие бы не пели трусливые лизоблюды панегирики, не Наполеон. И теперь остался лишь один выход – идти к дьяволу на поклон».
Привычно поискал на шее амулет и не найдя тяжело вздохнул. Затем, сняв трубку внутренней связи, приказал:
– Пригласите ко мне товарища Кнопмуса.
…В комнате у следователя Еремеева, доставившего его из Куйбышева, были плотно занавешены шторы. На столе – лампа с изогнутой ножкой – единственный источник света.
Но это не имело значения. На что тут смотреть? Везде одно и то же. Стол, два стула, шкаф, на стене портрет Дзержинского или Сталина, не более того. Разница лишь в мелких деталях.
Поэтому, пропуская мимо себя происходившее вокруг, просто уставился на выключатель лампы, сосредоточив все мысли на нём.
– Вы, я вижу, не слушаете меня, гражданин Тухачевский?
Он молчал.
Еремеев встал из-за стола, обогнул и присев на краешек, достал из нагрудного кармана кителя маленький листок бумаги. Показал арестанту. На нем было лишь одно слово, а вернее, имя: «Суламифь».
Насладившись ошеломленной реакцией, убрал обратно. Любой чекист знает, нужно ковать железо пока горячо. Маршал . потёк
И следователь, без паузы, наклонившись к лицу, глядя прямо в глаза Михаилу Николаевичу, зло зашипел:
– Неужели думаешь, гаденыш, что у нас нет против тебя методов? Мне сразу стало ясно, что побои бессмысленны, но начальство требовало. А я вот знаю, как заставить тебя говорить. Не веришь? Знаю, знаю.
Спрыгнув со стола, подошел к двери, открыл и крикнул:
– Заходите, гости дорогие!
Тухачевский обернулся. В комнату вошли трое рослых мужчин в форме и Она.
Она. Его жизнь, его душа, единственная, кого он любил всегда и ни разу не предал. Единственная, ради кого всегда шел вперед и побеждал.
Самая лучшая.
Самая-самая.
Доченька.
Светочка.
Попытался рвануться со всей своей медвежьей силой со стула, но мордовороты набросились на него и удержали. Сковали наручниками руки и ноги.
Все трое остались стоять наготове рядом, крепко сжимая бывшему маршалу плечи. А Еремеев подошел к его хрупкой, такой еще юной, доченьке и внимательно посмотрел на нее.
Затем взял девочку рукой за подбородок. По щекам ребенка катились слезы.
– Михаил Николаевич, а цветок то созревает, а? Не находите? Как думаете, вероятно, в целях воспитания стоит сейчас спуститься вниз, приковать вас к решетке, чтобы не буянили, а эти молодые люди объяснят Светочке все о настоящей любви. Как вам такая перспектива?
– Уведите дочь, тогда поговорим, – хрипло ответил.
– Вот и славно. Отпустите его и уведите ребенка, но ждите пока за дверью, вы можете понадобиться, – приказал следователь.
Затем повернулся к узнику:
– И о чем же вы хотели поговорить?
Дверь захлопнулась. Тухачевский сглотнул, и решился.
– Я подпишу все, что требуется.
– Нет, дорогой мой, всё не надо. Пока мне нужны лишь показания о подготовке переворота.
– Не было никакой подготовки. Но я уже сказал. Подпишу все. Что я немецкий шпион, что я готовил покушение на Сталина, что я убил Кирова, что я срывал пятилетку. Все, что хотите. Просто диктуйте. Одно лишь условие. Света должна быть освобождена.
– Вот этого гарантировать не берусь. По закону, как дочь врага народа, она будет сослана. Но могу обещать другое: ни на этапе, ни в лагере ее никто не тронет. Думаю, как человек умный, сами прекрасно понимаете, жизнь вам не сохранят, не смотря ни на какие показания. Поэтому, единственное что остается, так это верить мне на слово и точно следовать указаниям.
«Ну вот и все. Надеялся хоть честь сберечь. Не вышло. Эх, Серго, Серго, почему же ты не пошел с нами? Неужели не понял еще, что вчера – Мироныча шлепнули, сегодня – меня, а завтра и твой черед настанет. Ну ладно. Спасибо, что предупредил заранее, я был готов к сегодняшнему спектаклю. Теперь главное – моя малышка. Настало время предавать, настало время унижаться. Пусть. Пусть. Главное – она. Главное – дочь».
Еремеев подошел к столу, достал из ящика чистый лист бумаги, пододвинул Тухачевскому вместе с пером и чернильницей.
– Пишите.
– Что писать?
– Я уже сказал, пишите все об организации заговора.
– И я вам говорил, мне об этом ничего не известно. Но моя дочь у вас в заложниках, поэтому диктуйте что угодно, собственноручно все запишу и подпишу.
Следователь задумался. Выходило не так, как планировали с наркомом Ежовым, но ведь главное – результат? Побарабанив пальцами по столу, он, прищурившись, посмотрел на арестанта и решился.
– Хорошо. Пишите следующее…
ст. Жихарево—Вологда, 1942 год.
На станции Жихарево тех беженцев, которые еще могли ходить сами, распределяли по баракам. Перед этим вручали каждому буханку хлеба и котелок с горячей, обжигающей кашей.
Чудом выбравшиеся из ада люди с жадностью набрасывались на еду, с нетерпением спеша в помещение, прочь от трескучего мороза.
– Эй, новенькие, – кричали в бараке мужики, сидевшие у печки, – к огню-то с холода не лезьте, сосуды полопаются, кони двинете.
– Сволота, устроились где потеплее, место потерять боятся, – ворчали прибывшие, но в конфликт не вступали. Забирались на ближайшие свободные нары, чтобы продолжить трапезу. Ветра нет – и то счастье.
Аркаша ел и ел. Он чувствовал, что ему становится только хуже, но удержаться не мог.
– Сынок, пожалуйста, кушай помедленнее, – говорил дрожащим голосом отец, но сам при этом судорожно впивался цинготными зубами в хлеб.
Да и никто не мог остановиться.
Через несколько часов наступила расплата. И нужники, и снег вокруг бараков окрасились кровью. Началась повальная дизентерия от столь обильного для доходяг угощения. А нужно было отправлять эшелоны с беженцами вглубь страны, подальше от линии фронта. Но несчастные не могли даже дойти до состава. Кто-то уже умер, кто-то был слаб настолько, что не имел сил самостоятельно подняться. Измученные морозами, голодом, а затем и болезнью, люди все же погрузились в вагоны, и поезд отправился дальше, в сторону Вологды.
Аркаша сам дотащил отца волоком. Он даже не помнил, как ему это удалось.
Дрожали от слабости ноги, иногда кровь начинала течь под брюками. Не было времени дойти до туалета, эшелон готовился к отправке.
Наконец, оба с трудом забрались внутрь и почти сразу уснули.
Наутро, проснувшись в промерзшем вагоне, Аркаша обнаружил, что их попросту забыли снабдить дровами. Печка есть, а топить нечем. «Теплушка», в которой спасались тридцать душ, превратилась в «холодушку».
Вдобавок, никто и не думал в дороге кормить несчастных: дизентерийный состав как-никак, всё одно впустую продукты переводить.
Хотели попробовать собирать хворост во время стоянок, но не знали, насколько долго те длятся.
Ослабшие люди были бы не в силах добежать даже до ближайшего вагона, если состав тронется. А отстать от состава – верная смерть: ни продуктовых карточек, ни вещей, многие без документов.
Да и железнодорожные пути вокруг теперь стали девственно чисты – топлива не хватало, собиралось всё до последней ветки. Значит, чтобы достать дрова, нужно было уходить далеко от поезда.
Голодали. Замерзали. Засыпали – и не просыпались…
– Аркаша, – прошептал отец сиплым голосом, – ты не спишь?
– Не сплю, папа.
– Сынок, у меня спина примерзла, помоги.
Парень снял варежки и обмороженными скрюченными пальцами начал отковыривать отцовскую шинель. Ногти ломались, руки тряслись от слабости, но он упорно продолжал скрести костяшками наледь.
Наконец, со стоном отец отвалился от стены, с трудом подняв голову, и мутным взором обвел вагон.
– Почему тебе никто не помог? – прохрипел он.
– Наверное, спят все.
– Спят они… спят… как же… толкни вон того, – кивнул головой отец.
Аркаша, держась за стену трясущегося вагона, подошел к сидевшему на скамейке исхудавшему, с виду когда-то крепкому, мужчине. Голова его склонилась к груди, рот чуть приоткрыт. Казалось, ну что тут, просто задремал человек. Но изо рта не шел пар, хотя это ведь ни о чем еще не говорило…
Паренек потряс его как можно сильнее за плечо. Тот повалился на пол в той же позе, которой сидел, словно манекен из магазина. Еле успел отскочить в сторону, чтобы не придавило.
– Буди всех, – приказал отец, – тряси, проверяй, кто еще жив. Нам сейчас каждый нужен.
С трудом удалось растолкать какую-то женщину, и с её помощью дело пошло немного быстрее.
Через полчаса оказалось, что в живых в вагоне осталось пятнадцать человек. Они бездумно, равнодушно, словно куклы, сидели кто где.
Молчали.
Аркаша посмотрел на отца. Тот собрался, прокашлявшись, кивнул сыну.
– Товарищи, – обратился к выжившим Натан командирским голосом, как обращался к бойцам во время гражданской, как обращался к ополченцам, с которыми еще недавно оборонял Ленинград, – самое страшное уже позади. Мы вырвались из блокады. Теперь нам осталась самая малость – добраться до Мелекесса, не замерзнув.
Люди потихоньку стали собираться вокруг него.

