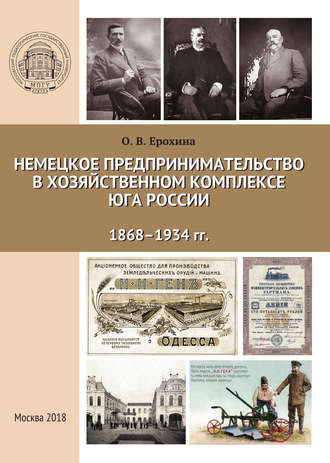 полная версия
полная версияНемецкое предпринимательство в хозяйственном комплексе Юга России, 1868-1934 гг.
В начале сентября от генерал-губернатора г. Одессы М.И. Эбелова в Петроградскую особую канцелярию по кредитной части поступила телеграмма с просьбой не назначать правительственного инспектора на завод, так как он выполнял заказы государственной обороны.337 В это же время в министерство торговли и промышленности поступило ходатайство комитета Одесского общества фабрик и заводов об упразднении правительственного надзора за акционерным обществом И.И. Гена.338 Несмотря на это, отдел торговли и промышленности ответил на прошения отказом, мотивируя его сведениями департамента полиции: «владелец 2337 акций общества состоял членом попечительного совета южно-русского немецкого общества, являясь, таким образом, распространителем вредного немецкого влияния».339
В сентябре в Государственной думе слушался доклад товарища председателя комиссии по борьбе с немецким засильем во всех областях русской жизни С.П. Мансырева. В его основу легли пожелания 74 членов Государственной Думы, которые предлагали внести изменения в законы 1915 г. о ликвидации немецкого землевладения в России.340
Осенью 1915 г. Министерством внутренних дел были направлены секретные циркуляры областным и губернским правлениям, в которых предписывалось собрать точные и полные сведения о количестве немецких колоний, их месторасположении, о площади занятых земель, числе домохозяев. Особое внимание обращалось на взаимоотношения немцев с местным населением и их отношение к войне и «ликвидационным» мероприятиям. В ответ на этот циркуляр столоначальник П. Щекашуров отправил отчет, в котором указывал, что в 168 колониях Области Войска Донского насчитывалось 10 327 человек, которые владели землей в количестве 154 966 дес. 730 к.сажени. При этом он подчеркивал: «колонисты живут с окружающим населением мирно, враждебности к русским не проявляют, в разговорах сдержаны».341
О необходимости закрытия торговых и промышленных предприятий, принадлежавших неприятельским подданным воюющих с Россией держав, министерство финансов вновь заговорило в начале октября 1915 года. П.Л. Барк просил И.Л. Горемыкина поставить на обсуждение в Совете Министров вопрос о желательности их закрытия к концу 1915 года.
Его позицию не разделял бывший министр торговли и промышленности С.И. Тимашев, считая, что они затронут интересы русских торгово-промышленных и банковских кругов. К тому же «единовременная ликвидация целого ряда, частью весьма крупных предприятий, не может не отразиться серьезным потрясением на экономической жизни страны, особенно нежелательным в переживаемое время общей стеснительности торгово-промышленных оборотов вследствие мировой войны <…> в отношении чисто промышленных предприятий полагал более осторожным воздерживаться от принудительного их прекращения».342
15 октября 1915 г. в Совет министров поступил проект П.Л. Барка о действиях ограничительных законов в отношении предприятий неприятельских подданных. Он писал, что к этому времени были закрыты или перешли в руки русских, союзников или нейтральных подданных 1 361 торговое предприятие, а 478 предприятий с общим торговым оборотом в 69 706 500 руб. подвергнуты ликвидации по правилам положения 10 мая 1915 года.343 Он обращал внимание на фиктивный характер сделок по отчуждению таких предприятий. П.Л. Барк считал: «целью всех этих сделок было или сокрытие торговых предприятий от ликвидации или уклонение от уплаты государственного промыслового налога в двойном размере по промышленным предприятиям».
Ограничительные законы в отношении немцев, как иностранных подданных, так и российских, продолжали находить воплощение в решениях местных властей. Войсковой наказной атаман Донской области В.Н. Покотило344 23 октября 1915 г. подписал постановление о запрете «говорить на немецком языке на улицах, в трамваях и во всех публичных и общественных местах». Те же, кто нарушал это постановление, подлежали денежному штрафу до 3 000 руб. или заключению в тюрьме до 3 месяцев.345
Вопрос об усилении репрессивных мер в отношении промышленных предприятий, принадлежавших подданным воюющих с Россией держав, вновь был поднят В.Н. Шаховским 28 октября 1915 г. в секретной записке на имя И.Л. Горемыкина. По данным министерства торговли и промышленности в стране работало 34 предприятия на основе германского и австрийского капиталов. Из них разрешение на производство действий было ликвидировано и ряд предприятий были закрыты (Акционерное общество «Эккерт», общество «Дейтц», общество «Даймлер» и др.). Некоторые общества лишены права производить операции и подлежали ликвидации по особому постановлению Совета министров или в силу закона 2 февраля 1915 г. о землевладении подданных воюющих держав (Гельзеркирхенское горнопромышленное общество, общество «Дойчер Кайзер», русской горнозаводской промышленности) <…> в настоящее время секвестрованы по распоряжению военной власти (акционерное общество «Пиролюцит», машиностроительное общество бр. Клейн, общество Кале)».346
В.Н. Шаховской обращал внимание на то, что наиболее крупными и важными по выполнению заказов на оборону и для потребностей железной дороги являлись заводы Екатеринославской и Саратовской губерний (акционерное общество русской железной промышленности (бывшее Гантке), вторая московская анилиновая фабрика). Они производили химические продукты и взрывчатые вещества по заказу и под наблюдением военных властей. Он считал, что закрытие промышленных предприятий, принадлежащих подданным воюющих с Россией держав, и не выдача им надлежащих документов на производство промысла на 1916 г. едва ли может вызвать какое-либо серьезное экономическое потрясение в ходе промышленной жизни.
В ноябре 1915 г. после вступления Болгарии в войну, к ее подданным, владеющим акционерными компаниями и обществами, также стали применяться ограничительные постановления.347 В мае 1916 г. предоставленные им льготы в российском законодательстве были отменены.348
Канцелярия Совета министров подготовила в ноябре справку о принятых ограничительных законах в 1914-1915 годах.349 Проанализировав результаты, Совет министров принял решение о внесении изменений в отдельные законодательные акты, а 13 декабря 1915 г. был утвержден закон «О некоторых изменениях и дополнениях узаконений 2 февраля 1915 года о землевладении и землепользовании подданных воюющих с Россией держав, а также австрийских, венгерских или германских выходцев».350 Теперь на основании закона принудительному отчуждению подлежали недвижимые имущества австрийских, венгерских и германских выходцев на пространстве всех губерний, входящих в стоверстный (и 150 верстный) приграничный пояс: в трех прибалтийских, в польских губерниях, Петроградской, Ковенской, Гродненской, Виленской, Минской, Холмской, Киевской, Волынской, Бессарабской, Подольской, Херсонской, Таврической, Екатеринославской, Области Войска Донского и во всех местностях Кавказского края, Великого Княжества Финляндского и Приамурского генерал-губернаторства.
В пределах всего государства им запрещалось приобретать или арендовать недвижимую собственность. Кроме того, в законе говорилось: «Поселянам, состоящим членами сельских обществ, а также владельцам, по быту своему не отличающимся от крестьян, или перешедшим в русское подданство после 1 января 1880 года, воспрещается заведовать в качестве поверенных или управляющих недвижимыми имуществами, находящимися вне городских поселений. Указанное заведование недвижимыми имуществами, основанное как на формальных актах, так и на словесных соглашениях, неформальных сделках или без всяких сделок прекращалось по истечении двух месяцев со дня обнародования настоящего постановления».351
Законами 2 февраля и 13 декабря 1915 г. началась ликвидация немецкого землевладения в Российской империи. На территории юга России первыми подверглись экспроприации земли немцев в Таганрогском округе Области Войска Донского.352 В целом по стране так и не была подготовлена статистика имеющихся немецких хозяйств, не выявлены точные размеры земельных наделов. Т.Н. Плохотнюк считает, что в Донской Области в связи с широким распространением фидеикомисса353 не были установлены даже владельцы собственности.354 Однако по нашему мнению трудности в идентификации принадлежности имущества могли возникнуть при наличии совместной собственности немцев российского и иностранного подданства. Подобные явления можно было наблюдать во многих колониях Таганрогского округа Донского края – Новиковка, Любимая, Кнительфельд и других.355
Процесс отчуждения земель начинался с составления списков владельцев ликвидируемых землевладений и их публикации в местных губернских и областных «Ведомостях».356 Публикация предупреждала владельцев о предстоящем отчуждении. Списки содержали многочисленные неточности, так как составлялись не на основе книг нотариальных архивов, а по сведениям полиции, мировых посредников, волостных правлений. Например, колонист К.Я. Трай обратился к войсковому наказному атаману Донской области с прошением об изъятии его недвижимого имущества от действия ограничительных правил, так как он имел боевые награды, и его просьба была удовлетворена.357 Поселянка-собственница Г.К. Тевс с. Хлебного Богдановской волости Бердянского уезда Таврической губернии в ходатайстве в Совет министров писала: «Более ста лет назад мой дед переселился в Россию в числе других менонитов. <…> менонитская молодежь, помимо призванных по мобилизации, целыми сотнями спешила на помощь дорогой Отчизне в качестве добровольцев санитаров. <…> За время войны молочанскими менонитами пожертвовано более 240000 руб, не считая продуктов и содержания 3-х лазаретов».358 Она просила освободить ее от действия ликвидационных законов.359
30 января 1916 г. министру финансов П.Л. Барку поступило прошение присяжного поверенного Русского для внешней торговли банка Э.И. Штемпеля, просившего изъять его из действия закона 13 декабря 1915 года. «… Я с первого дня рождения всегда жил в России, получив воспитание в чисто русском духе. Как среднее, так и высшее образование было мною получено в России. <…> Устранение от работы в банке имело бы для меня чрезвычайно тяжелые последствия, – писал он, – именно для этой работы я оставил государственную службу, на ней основаны мое материальное благосостояние и расчеты на устройство моей дальнейшей судьбы».360
П.Л. Барк направил министру внутренних дел Б.Л. Штюрмеру ходатайство о разрешении продолжить работу в банке Э.И. Штемпелю. Со стороны министра юстиции А.А. Хвостова также не встречалось препятствий к получению льготы. Однако штаб Петроградского военного округа сообщил, что проситель был сыном переехавшего после начала войны из Германии в Голландию австрийского подданного Э. Штемпеля, владельца дюссельдорфской хлеботорговой фирмы, заподозренного в военном шпионаже. К тому же «Элиас Штемпель фиктивно передал Эмилию Штемпель управление фирмой».361 В результате было принято решение его просьбу отклонить.
На основании закона от 2 февраля 1915 г. «О прекращении землевладения и землепользования австрийских, венгерских или германских выходцев в приграничных местностях», который распространялся на территорию Донского края, срок добровольной продажи недвижимости назначался до десяти месяцев со дня обнародования списков владений, подлежащих отчуждению.362 По окончании этого срока имущество продавалось с публичных торгов.
Крестьянский банк получил право ликвидировать каждую добровольную сделку, используя возможность понижать договоренную цену, чтобы оставлять продаваемое владение за собой. Имея право преимущественной покупки, банк мог отказаться от приобретения имущества, не соответствующего его уставным положениям.
В частности, на заседании Донского отделения Крестьянского Поземельного банка 29 декабря 1916 г. было рассмотрено сообщение старшего нотариуса Новочеркасского окружного суда о продаже товарищества «Братья Петр и Гергард Петровы Фрезе», расположенного в станице Каменской Донецкого округа Донской области в размере 2 275 кв.с. купцу В.И. Щепилову за 50 000 рублей.363 Донское отделение пришло к мнению, что покупка имения банком является нецелесообразной, так как его земля совершенно непригодна для занятия сельским хозяйством. Единственная ценность поселения – вальцовая мукомольная мельница, которая требовала содержания особого штата служащих, а это было накладно для банка.
Нормативные документы, устанавливавшие порядок ликвидации немецких землевладений, не затрагивали вопроса о промышленных предприятиях на них. В то время как в немецких колониях располагались заводы не только по переработке сельскохозяйственной продукции, но и выполнявшие военные заказы.
Банк, являясь основным скупщиком земель, не мог эксплуатировать эти предприятия в силу различных причин. Поэтому совместная продажа земли и предприятия приводила чаще всего к ликвидации последнего или банк отказывался от приоритетного права покупки таких участков. Так, Крестьянский Поземельный банк не стал приобретать земли: Нейфельда в размере 3 дес. 580 саж., расположенные в Таврической губернии из-за находившегося на них кирпичного завода; Шлихта – 1 дес. в Донской области соответственно из-за чугунно-литейного и механического завода; Лишке – 1 800 саж. в Донской области из-за мукомольной вальцевой мельницы.364
В положении, утвержденном Советом министров 2 января 1916 г., предлагалось в судебном порядке рассматривать иски правительственных инспекторов в отношении иностранных подданных, заключивших фиктивные иски по продаже своих акционерных обществ. Если суд принимал положительное решение в отношении предъявляемых исков, то предприятия подлежали закрытию на основании положений от 11 января и 10 мая 1915 года.365
10 июля 1916 г. 1916 г. правительство утвердило указ для дальнейшего развития и разъяснения законов 2 февраля и 13 декабря 1915 г. по представлениям «Комитета по борьбе с немецким засильем».366 В результате банк получил возможность удерживать 5% покупной цены при покупке сельскохозяйственного живого и мертвого инвентаря (вплоть до посуды), если его не окажется в наличии или в исправности, так как он, конечно, будет подержанный (более или менее изношенный). То же самое относилось и к запасам хлеба, сена и соломы. К тому же банк мог оставлять на приобретенных землях их бывших владельцев для производства посевов и других работ на срок до одного года.367 Поэтому отделения Крестьянского банка спешили использовать этот указ. О численности землевладений иностранных подданных и выходцев, подлежавших ликвидации, свидетельствует отчет Крестьянского Поземельного банка в Особый комитет по немецкому засилью (табл. 1.2).
Число землевладений принадлежавших иностранцам выходцам из других государств было почти в 50 раз больше, чем землевладений иностранных подданных. Следует отметить, что они предпочитали приобретать недвижимость в основном в Таврической и Екатеринославской губерниях. Хотя наибольшей земельной площадью иностранцы владели в Таврической и Херсонской губерниях.
Таблица 1.2
Землевладения иностранцев, подлежавшие ликвидации на основании узаконений от 2 февраля и 13 декабря 1915 г. 368

Если указ 2 февраля 1915 г. предоставлял льготу по ликвидации имения тем семьям, в которых отцы или сыновья участвовали в боях Первой мировой войны, были награждены орденами или же убиты в сражениях независимо от того, в каком месяце 1915 или 1916 гг. это событие произошло, то разъяснительный указ 15 июля 1916 г. уже устанавливал правило: льготою могут пользоваться только те семьи, в которых отцы и сыновья участвовали в боевых действиях, были награждены или убиты до момента опубликования списка владений, подлежащих продаже.
Получалось, что опубликованный список имел такое большое значение, а боевые заслуги и сам факт смерти за родину меркли перед этим актом. Например, просителю «Готлибу Таблеру, родившемуся в России в 1840 г., предки которого приняли русское подданство в 1819 г.; был политически благонадежен; сын награжден наградой от 17 июня 1916 г. № 2960»369 было отказано в льготе, потому что сын его получил медаль «за разведку ночью» после выхода закона 15 июля 1916 года.
Поселянин кол. Гнаденфельд Таганрогского округа Э. Бельц указывал в своем прошении, что его сын погиб в мае 1916 г. и подтверждал это справкой начальника военного округа г. Таганрога, выданной в ноябре 1916 года. Однако ему было отказано, потому что свидетельство о смерти сына было выдано после выставления имения Крестьянским Поземельным банком на продажу.370 Наиболее циничным выглядит отказ вдове колониста, оставшейся с четырьмя маленькими детьми после смерти мужа. В прошении она указывала: предки мужа приняли российское подданство в начале XIX в., муж служил в русской армии и был мобилизован после тяжелого ранения в 1915 году. Женщина просила не отбирать у нее землю (21 дес.), акцентируя внимание на свои большие долги и недавнее ограбление.371 Как разительно отличался дух этого указа от благородного восклицания члена Государственной Думы В.В. Шульгина: «А пока эти люди носят почетное звание солдата и защищают русское государство, до тех пор руки прочь от их имущества».372
19 августа 1916 г. были подписаны еще два указа, которые разъясняли положения 2 февраля и 13 декабря 1915 г. Первым указом – «Об изменении, дополнении и изъяснении Высочайше утвержденного, 13 декабря 1915 г., положения Совета Министров о некоторых изменениях и дополнениях узаконений 2 февраля 1915 г. о землевладении и землепользовании подданных воюющих с Россиею держав, а также австрийских, венгерских и германских выходцев» недвижимые имущества, составлявшие предмет наследственного или родового фидеикомисса, в случае признания недействительности прав их владельцев, поступали в управление местных учреждений Министерства земледелия до выяснения прав наследников этих имуществ.373
Вторым указом «О некоторых изменениях и дополнениях узаконений 2 февраля и 13 декабря 1915 г. о мерах к сокращению иностранного землевладения и землепользования в государстве Российском» разъяснялся порядок отчуждения надельных земель, общественных построек, различных общественных и благотворительных капиталов, текущих денежных поступлений, а также порядок денежных расчетов с отдельными членами сельских и других обществ и порядок расходования общественных денежных средств согласно их первоначальному назначению.374
В указе говорилось о передаче отчужденных общественных строений во владение других учреждений. Указывалось, что действие законов 2 февраля и 13 декабря 1915 г. «может быть приостановлено на срок не свыше двух лет со времени настоящего узаконения в случаях, когда на означенных участках находятся действующие промышленные предприятия, выполняющие преимущественно заказы для нужд обороны, либо обслуживающие потребности, связанные с военными обстоятельствами».375 Кроме того, оговаривался порядок применения этой льготы. Совет министров мог даже удлинять указанный двухлетний льготный срок. Однако через два месяца были отменены льготы, предоставляемые лицам, на чьих землях были расположены промышленные предприятия.
В связи с этим член Государственной думы П.В. Каменский на заседании Государственного совета в 1916 г. высказал свое мнение: «В трех губерниях и в Области Войска Донского имеется 49 паровых мукомольных предприятий <…> перерабатывают ежегодно 14.000.000 пудов зерна. Если проводить мероприятия по ликвидации в спешном порядке, то эти мельницы, из коих мука доставляется в армию и в столицы, а также и для местного населения, должны приостановить свою работу, ибо для этих предприятий нельзя найти заместителей в семидневный срок».376
Необходимо отметить, что некоторым немецким предпринимателям удавалось избежать ликвидации предприятия, если они могли подтвердить свое российское подданство. Например, владельцы ростовской пивоварни «Южная Бавария» Ч. Стукен и Л. Стукен в 1915 г. сумели доказать, предъявив свидетельства, что они являлись купцами первой гильдии и почетными гражданами городов: первый – Ростова-наДону, а второй – Ейска.377
Наиболее существенные положения этого указа состояли в следующем: наделы и недвижимые имущества подлежали отчуждению только вместе. Общественные постройки, возведенные на этих землях и находившийся в них инвентарь, вносились земскими начальниками в особую опись и поступали в собственность Крестьянского банка безвозмездно. Промышленное предприятие не выступало самостоятельным объектом, а являлось принадлежностью имения. Совместная продажа земли и промышленного объекта неизбежно вела к их обесцениванию.
Описи проходили следующим образом. Полицейский пристав приглашал оценщиков и понятых обычно из крестьян, которые были почти незнакомы со сложными машинами и ценами на производителей скота. Например, в колонии Эйгенгейм сельскохозяйственные машины и скот были оценены без осмотра прямо по списку в 35 881 руб. До войны одна лошадь стоила около 300-400 руб., а их в колонии было 127 и насчитывалось 52 жеребенка; веялка стоила 120 руб., а их было 7. Кроме этого в колонии имелось 64 плуга различной системы, 4 паровых и 2 конных молотилки и много другого сельскохозяйственного инвентаря. Хозяйственные постройки были оценены в 31 300 руб., несмотря на то, что в колонии имелся завод по переработке сельскохозяйственной продукции, который до войны давал доход 1 500 руб., а также ветряная мельница с доходом 500 рублей. Десятина земли была оценена в 100 руб., тогда как до войны ее цена доходила до 300-500 рублей. В результате Крестьянский поземельный банк приобрел имущество колонии за очень низкую цену – 438 130 рублей.378
Все наличные суммы и капиталы переводились по распоряжениям земских начальников на депозит уездного съезда земских начальников. Страховые капиталы переводились на депозит губернского присутствия, сиротские суммы – в ведение опекунских учреждений.
Крестьянский банк должен был выдавать вознаграждение за отчужденный участок каждому домохозяину отдельно. Причем выплачивалось оно именными свидетельствами, которые подлежали оплате через 25 лет, и их нельзя было ни продать, ни передать по наследству. Такая форма расчета была не выгодна немецким колонистам, но выгодна российским властям потому, что цены на земельные участки за это время могли возрасти во много раз, а также если владелец земли умирал, то его наследники не могли претендовать на выплату с именных свидетельств.
Немцы являлись российскими поданными и были уверены, что ликвидационные законы их не коснутся. Желая избежать секвестра и экспроприации, колонисты и предприниматели подавали прошения в различные государственные инстанции. Большие надежды они возлагали на депутатов Государственной думы. Например, жители колоний Ровнополь, Бишлеровка, Чепелиевка, Петропавловка, Новая Надежда, Новиковка, Жировка, Ротовка, Петропавловка Области Войска Донского отправили ходатайство в Государственную думу с просьбой об изъятии их земельной собственности из содержания законов от 2 февраля и 13 декабря 1915 г. об ограничении и прекращении иностранного землевладения. Они приводили примеры безграничной преданности российскому государству, напоминали об экономической пользе немецкой колонизации донских земель. И о том, что их это «совершенно разорит и более 3000 владельцев с семьями превратятся в пролетариат, который будет тягостен для государства, ибо его придется продовольствовать на счет казны», а также о возможных потерях в результате ликвидации немецкого землевладения. Немцы просили избавить их от незаслуженно жестокого наказания.379 Однако их прошение осталось без ответа.
8 сентября 1916 г. ограничительные узаконения о землевладении и землепользовании подданных воюющих с Россией стран были распространены на Харьковскую губернию, а также на уезды Каинский Томской губернии и Тюкалинский и Ишимский Тобольской губерний.380 В двухмесячный срок подлежали отчуждению недвижимые имущества австрийских, венгерских и германских подданных. Им было запрещено отдавать свою собственность в залог, заключать договора найма, аренды или рубки леса. 20 октября 1916 г. были внесены изменения и дополнения в закон от 8 сентября 1916 года. В результате действия ограничительных законов были распространены на сельские общества, образованные из австрийских, венгерских или германских выходцев и их потомков, а также неприятельских подданных.
25 октября 1916 г. Совет министров утвердил положение «О порядке ликвидации промышленных предприятий, расположенных на подлежащих отчуждению землях неприятельских подданных и выходцев».381 Были установлены новые правила ликвидации земельных участков, на которых были расположены наиболее значимые промышленные предприятия.
Губернские правления должны были через месяц после обнародования узаконения подать Министру торговли и промышленности и Крестьянскому Поземельному банку списки землевладений, на которых были расположены промышленные предприятия первых шести разрядов по платежу основного промыслового налога. Для обязательного отчуждения акционерных компаний учреждались ликвидационные управления, в состав которых назначались представители от министерств Торговли и Промышленности, Внутренних Дел, Земледелия и Финансов (по Крестьянскому Поземельному банку).

