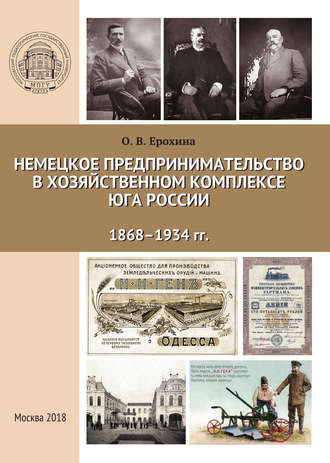 полная версия
полная версияНемецкое предпринимательство в хозяйственном комплексе Юга России, 1868-1934 гг.
Слияние или соединение с другими обществами, увеличение или уменьшение основного капитала, предназначенного для операций в России, выпуск облигаций, перенесение операционного года общества – все это не могло быть реализовано без получения разрешения.173 Об остальных изменениях и дополнениях в уставе общества разрешалось лишь уведомлять государственные органы власти.
И.В. Щербаков считает, что этот пункт был внесен, чтобы не допустить монополизации производства. Однако И.М. Гольдштейн и Г.В. Цыперович еще в начале ХХ в. рассматривали организацию иностранного капитала в Российской империи как благоприятную среду для образования синдикатов и трестов.174 В частности И.М. Гольдштейн писал, что германские акционерные предприятия создали общность интересов, заключая между собой договоры о взаимодействии с целью преодоления конкуренции российских предприятий175, что мешало ассимиляции германских предприятий в России.176 Вероятно правительство, включая этот пункт, предусматривало возможность в дальнейшем контролировать деятельность обществ.
Акционерные компании должны были вносить в Государственный особый банк залог в размере, установленном Министерством финансов и Министерством внутренних дел. Долги компании и разного рода другие претензии к ней по операциям в России подлежали преимущественному удовлетворению за счет принадлежащего ей имущества и следующих в ее пользу платежей. Первым обществом, допущенным на таких условиях к деятельности в 1887 г., стало акционерное общество с правлением в Будапеште «Ганц и Ко».177
Вместе с тем правительство считало возможным идти навстречу предпринимателям, разрешая выдавать временные торговые документы компаниям, не имевшим особого разрешения на производство операций в России. Однако акционерные общества должны были ходатайствовать о разрешении до истечения установленного срока (8 мес.), либо прекратить свою торгово-промышленную деятельность. Такой переходный период длился с 1887 по 1891 годы.
14 марта 1887 г. был принят закон, который запрещал иностранным подданным и компаниям приобретать, арендовать и управлять недвижимым имуществом вне городских поселений на западных границах империи.
Комитетом министров был сформулирован принцип, который стал применяться при рассмотрении уставов акционерных обществ: «раз компания может владеть недвижимыми имуществами вне городских поселений в губерниях, поименованных в указе 14 марта 1887 г., – в администрацию не допускаются иностранцы; если в черте еврейской оседлости, – то евреи; под администрациею подразумеваются при этом директора правления, кандидаты к ним, директора распорядители и заведующие и управляющие недвижимыми имуществами».178 Принимая этот закон, правительство преследовало цель укрепить русское землевладение и сблизить эти территории с основной частью государства. Оно также пыталось приостановить расселение немецких колонистов на западе страны, так как в Россию со второй половины XIX в. хлынул значительный приток иммигрантов из Европы, включая значительное количество немцев и австрийцев.179
К тому же власти стремились ограничить участие иностранцев в управлении акционерными обществами в вышеназванных областях. Однако министр финансов М.Ф. Вышнеградский посчитал, что ограничения в законе были прописаны нечетко и предложил включать в уставы обществ пункт: «в случае приобретения компанией недвижимых имуществ вне портовых и других городских поселений <…> в некоторых местностях западной полосы России» ее акционерами не могут быть иностранные подданные.180
Несмотря на различные ограничения, иностранные компании находили возможность избежать их. Так, А.Ю. Ротштейн в интересах собственного банка, вложившего инвестиции в германское предприятие, писал одному из директоров фирмы «Гилле и Дитрих» в Дрездене: «Мы сегодня занимались редакцией устава (Жирардовских мануфактур «Гилле и Дитрих» – О.Е.) и столкнулись с тем, что нам не разрешают выпускать именные акции без соблюдения условия, по которому при организации предприятия в Польше минимум половина директоров должна быть российскими подданными. Вследствие этого я увеличил число членов правления до 7, и эти два места, в случае если никто из ваших директоров не являются российскими подданными, займу таким образом, что просто делегирую двух господ из Международного банка, которые займут проформа места в правлении, но не будут в действительности принимать участия в деле».181
Комитет министров на основании Положения «О принятии мер для применения действующих постановлений к иностранным обществам, производящим свои операции в России»182 от 9 ноября 1887 г. разрешил акционерным обществам, не имевшим дозволения на предпринимательскую деятельность, получить его, возбудив ходатайство до 1 мая 1888 года. Если же общества не заявляли о своем желании получить «разрешение», то они должны были прекратить свое торговое и промышленное дело в России к 1 января 1889 года. Комитетов министров, министры финансов и внутренних дел разослали местным властям циркуляры с изложением действующих постановлений относительно иностранных обществ.183 В результате 17 иностранных компаний возбудили ходатайство о разрешении производства операций в России, а остальные 14 немецких, 5 французских, 3 австрийских, 3 бельгийских, 2 североамериканских соединенных штатов, 1 голландское сделали это в течение 1888 года184. Это законоположение должно было упорядочить деятельность иностранных компаний, которые производили свои операции в Российской империи без всякого разрешения или с разрешения местной администрации. Таким образом, было проведено коренное изменение в распределении содержания старого свода торговых узаконений.
8 июля 1888 г. было утверждено Положение «О допущении некоторых акционерных обществ к производству своих операций в России без испрошения на сие особого высочайшего разрешения».185 На основании этого положения «иностранные промышленные акционерные общества, деятельность которых в России ограничивалась исключительно продажей изготовляемых за границей предметов, а также иностранные судоходные предприятия, основанные на судоходных началах, занимавшиеся перевозкой грузов и пассажиров непосредственно между иностранными и русскими портами» освобождались от прошения на разрешение операций.
Несмотря на то, что в большинстве министерств господствовало неблагоприятное отношение к иностранным инвестициям в российскую экономику, министр финансов И.А. Вышнеградский признавал необходимым привлечение иностранных капиталов с целью развития отечественной промышленности. Свое мнение он высказал в октябре 1888 г., когда на заседании Государственного Совета рассматривался вопрос о предоставлении разрешения на ведение операций в России австрийскому акционерному обществу «Фабрика пистонов и патронов, бывшая Селлие и Бело». И.А. Вышнеградский считал нежелательным затруднять доступ иностранным капиталам к производству промышленных предприятий в России, так как собственных было недостаточно. К тому же отечественные капиталисты не спешили открывать новые предприятия, боясь рисковать и не получить верную прибыль. По его мнению, привлечение в страну иностранных капиталов представлялось одним из необходимых условий для развития отечественной промышленности, потому что они способствовали бы усовершенствованию различных отраслей производства и распространению в рабочем населении полезных технических знаний, без которых многие сферы фабрично-заводской деятельности оставались бы для нас малодоступными. «Нельзя не признать, что ограничение доступа к нам иностранных капиталов, – говорил И.А. Вышнеградский, – будет содействовать лишь большему ввозу к нам иностранных товаров, которое население в силу необходимости и было бы вынуждено покупать, уплачивая иностранцам, помимо издержек по производству, еще и разные накладные расходы».186
Министр юстиции Н.А. Манасеин также ратовал за допущение к деятельности в России иностранных обществ, которые бы способствовали развитию и усовершенствованию какой-либо отрасли отечественной промышленности. При этом он считал недопустимым «давать право производства операций таким обществам, цель деятельности которых состоит исключительно в эксплуатации естественных богатств России», акцентируя внимание на германском акционерном обществе «Баденская анилиновая и содовая фабрика».187
Однако военное ведомство выступало против предоставления права иностранным предпринимателям участвовать в развитии промышленности Российской империи, тем более в казачьих областях. Так, военный министр А.Н. Куропаткин на одном из проектов устава написал следующую резолюцию: «Я не сторонник слишком сплошного развития промышленности в казачьих владениях за счет <…> иностранных капиталов и при помощи иностранцев и евреев. Лучше позже, но чтобы разработка естественных богатств в казачьих областях оставалась в русских руках. Так лучше для государства и для казачьих интересов <…> Надо принимать все меры, чтобы в казачьих областях действовали русские люди и русские капиталы».188
В 1892 г. был принят новый Устав о промышленности.189 На основании статьи 177 иностранцы получили право учреждать фабрики и заводы, не имея российского подданства. Кроме того, «всякое открытие, изобретение или усовершенствование какого-либо общеполезного предмета или способа производства <…> есть собственность того лица, кем оное сделано, и сие лицо, для обеспечения прав своих на сию собственность, может испросить себе от правительства исключительную привилегию».190 Данная привилегия распространялась и на иностранцев. Если изобретатель, желающий получить привилегию, проживал за границей, то на основании Положения о привилегиях на изобретения и усовершенствования от 20 мая 1876 г. он мог это сделать через своего поверенного в России.191 Эта привилегия была важна для тех, кто внедрял в российскую промышленность новые технологии, оборудование, инвентарь. Южный регион Российской империи по технической оснащенности был сравним с западными странами, так как на предприятиях использовалось оборудование из Бельгии, Франции и Германии.
Предоставляя широкие возможности для предпринимательства иностранцев, правительство накладывало ограничения на их деятельность в тех отраслях, где делало ставку на отечественный капитал или отрасли имели военно-стратегическое значение. Так, ст. 265 предусматривала, что «собственниками и содержателями, а также управляющими пороховых заводов могут быть лишь русские подданные».192
Несмотря на всю сложность и противоречивость процесса модернизации русского законодательства оно постепенно приближалось к унификации норм на всем пространстве государства. Это легко проследить на основе права на владение недрами. При существовании права на занятие горнопромышленностью отдельно существовало право на владение и пользование рудными месторождениями или нефтеносными землями. Уставом горным от 1893 г. иностранным подданным наравне с русскими было разрешено производство горного, золотого и нефтяного промыслов.193
По мнению А.Г. Задеры, распродажа земельных участков отдавала в собственность иностранным капиталистам неучтенные рудные богатства, так как по закону недра принадлежали владельцу поверхности участка194 Однако И.В. Поткина считает, что право на владение землей не совпадало с правом на владение недрами, т.е. «владение, пользование и распоряжение российским законом отчетливо различались»195.
До 1856 г. право на добычу полезных ископаемых на территории Донской области принадлежало исключительно войсковому сословию. Только с принятием «Положения о горном промысле в земле Войска Донского» от 1864 г. появилась возможность достаточно свободно заниматься горным промыслом невойсковому сословию. После издания указа 1868 г., разрешившего иногородним и иностранным подданным приобретать недвижимость на Дону, они также смогли участвовать в разработке антрацитовых залежей. Именно поэтому с начала 70-х гг. XIX в. среди донских углепромышленников стали встречаться английские, германские, французские фамилии.
Горные и соляные отделы находились в ведении управляющего, подчинявшегося войсковому наказному атаману, который осуществлял контроль над горнодобывающей промышленностью Донского края. Станичные и крестьянские общества владели правом собственности на добычу угля и могли не только сами разрабатывать угольные месторождения, но и «допускать всех посторонних лиц по добровольным с ними соглашениям, совершенным явочным порядком до выработки всех заключающихся в недрах полезных ископаемых»196.
В 1897 г. было принято постановление «О применении к Области Войска Донского общих законоположений по горной части», по которому производилась передача управления горной и соляной частями в Области из военного ведомства в Министерство земледелия и государственных имуществ.197 В конце XIX в. в угольной промышленности Дона начался быстрый переход крупных рудников в руки иностранцев. Так, из 8 рудников иностранными предпринимателями были куплены 7, доходность которых не вызывала сомнений, причем, русское название предприятия оставлялось.198
А.Г. Задера утверждал, что это делалось для того, чтобы успокоить русское общественное мнение относительно их деятельности в Российской империи.199 Однако, на наш взгляд, подобная практика давала возможность избежать «чиновничьего произвола», то есть препятствия со стороны «представителей власти» в виде вольного толкования законов и длительности сроков рассмотрения прошений об учреждении обществ.
В 1893 г. вместо И.А. Вышнеградского министром финансов был назначен С.Ю.Витте.200 «В импорте иностранного капитала и в развитии (при помощи этого капитала) промышленности в России, – писал Е.В. Тарле, – Витте видел одну из главных целей, к которой должна стремиться государственная власть».201
С.Ю. Витте обращал внимание на то, что громоздкая процедура открытия иностранных акционерных обществ в России не способствовала приливу капитала. В секретном докладе к Николаю II он писал, что «… вследствие тех затруднений и мытарств, которые приходится претерпевать иностранным учредителям в России, всевозможных ходатайств, прошений, которые приходится подать в губернские и в центральные учреждения, постоянной зависимости не только от закона, но и от административных учреждений – прилив иностранных капиталов в Россию <…> имеет еще слишком небольшие размеры».202
С.Ю. Витте разработал систему мер для привлечения иностранцев в страну: 1) упрощение российского законодательства об иностранцах; 2) открытие в России иностранных компаний; 3) участие иностранного капитала в русских акционерных обществах; 4) разрешение предпринимательской деятельности в России иностранным гражданам; 5) понижение отдельных статей таможенного тарифа по мере укрепления соответствующих отраслей отечественной промышленности.
Проведенные мероприятия не замедлили сказаться на процессе учреждения предприятий. Например, Общество русской горнозаводской промышленности было основано за границей 10 октября 1898 г., а допущено к деятельности в России 9 июля 1899 г., открыло действия 1 октября 1899 года. Общество русской железной промышленности было основано 20 декабря 1900 г., допущено к производству действий 6 июля 1901 г., а открыло действия в России 15 декабря 1901 года203. Иногда иностранные компании сравнительно быстро получали разрешение на деятельность в России, а открыть дело не могли. Например, «Сибирское золотопромышленное общество», которое в течение полугода получило дозволение, но в силу обстоятельств предприятие в империи не создало.204
Немецкие предприниматели предпочитали создавать акционерные общества на юге России, учрежденные на основе русского устава. Их инвестиции отчетливо прослеживаются в таких предприятиях, как Краматорское металлургическое общество, Никополь-Мариупольское металлургическое общество, Общество русских трубопрокатных заводов, Екатеринославское машиностроительное общество, Русское общество механического завода Гартмана, Донецко-Юрьевское металлургическое общество.205
Иностранные предприниматели, в том числе и немцы, пытались поразному сократить сроки рассмотрения прошений. Например, фирма «Г.Ф. Эккерт» занималась сбытом сельскохозяйственных орудий и машин в России через русские фирмы. Однако руководство посчитало необходимым обезопасить себя «если бы дальнейшие сношения с русскими посредническими фирмами оказались затруднительными» и заранее подало ходатайство о предоставлении права производить операции в Российской империи, чтобы существенно уменьшить время оформления допуска к акционерной деятельности.206
С.Ю. Витте, говоря о нежелании иностранцев помещать свои капиталы в российскую промышленность, обращал внимание на то, что «без твердой уверенности в своей личной и имущественной безопасности, без ясного представления о своем праве собственности и о надежной защите этого права законом от чьего бы то ни было посягательства не может быть и речи о стремлении к сбережению, а тем более об уверенном помещении сбереженного в свое или чужое производство. Всякое стремление к помещению своих сбережений в какое-либо предприятие, при отсутствии уверенности в имущественной безопасности, при слаборазвитом в стране понятии о собственности, парализуется страхом потерять свое помещение».207 Этот вывод не утратил своей актуальности и сегодня, так как иностранные инвесторы с неохотой идут в Россию из-за отсутствия должных условий.
Только с завершением финансовой реформы и введением золотой валюты в Российской империи были созданы условия для привлечения иностранных капиталов. «Созданная устойчивость нашей валюты послужила могущественным рычагом в деле развития нашей акционерной промышленности…, – отмечалось в журнале «Вестник финансов, промышленности и торговли», – только благодаря устойчивости нашей валюты иностранные капиталисты, ограничивавшиеся до того времени почти исключительно приобретением одних правительственных или гарантированных правительством займов, дававших им точно определенный и всегда реализуемый в любой валюте доход, стали обращать свою деятельность на учреждение более прибыльных, но не доступных при прежней неустойчивости курса акционерных промышленных предприятий».208 Введение твердого курса рубля позволило России получить не менее 3 млрд. рублей иностранного капитала, направленного в сферу производства и на железнодорожное строительство.209
При непосредственном вмешательстве министра финансов С.Ю. Витте Комитет министров 3 декабря 1898 г. отменил право правительства в любое время прекращать деятельность иностранных обществ без объяснения причин, потому что «оно вызывало весьма неблагоприятные толкования в заграничных промышленных и коммерческих сферах, порождая недоверие к устойчивости правил, определяющих положение иностранных компаний в России».210 С принятием этого решения для занятия торговлей и промышленностью отпала необходимость приписываться к купеческому сословию.211
К концу XIX в. сложилось такое положение, при котором для деятельности иностранных компаний в России существовали более льготные условия, чем для отечественных. Н.В. Курысь указывала на то, что Комитетом министров отмечались случаи отказа некоторых иностранных обществ реорганизовываться в российские для получения частных привилегий.212 Кроме того, русские подданные стремились учреждать общества в России по иностранным уставам, что быстрее приводило к цели в отличие от создания общества на основе российского права.213
На совещании министров 17 марта 1899 г. по обсуждению торгово-промышленной политики Российской империи, С.Ю. Витте выступил с докладом «О необходимости установить и затем непреложно придерживаться определенной программы торгово-промышленной политики империи», в котором акцентировал внимание на протекционизме и привлечении иностранных капиталов.214
Он был убежден, что проведение политики протекционизма будет способствовать не «притоку благ потребительных, вырабатываемых странами с уже развитой промышленностью», а привлечению иностранных инвестиций для создания промышленного могущества страны.215 При этом предлагал до пересмотра торговых договоров в 1904 г. «не делать никаких новых против существующих законоположений стеснений притоку иностранных капиталов ни путем издания новых законов или распространительного толкования существующих, ни особенно путем административных распоряжений».216
19 марта 1899 г. Николай II в «Высочайших Повелениях» признал «начала, положенные в основании тарифа 1891 г. подлежащими сохранению в незыблемой целости с допущением и впредь неизбежного для удешевления продуктов обрабатывающей нашей промышленности участия в развитии или создании тех или других ее отраслей иностранных капиталов и предпринимателей».217 При этом указывалось, что дальнейшая практика не должна вносить «изменения или развития сих начал, когда в том представится по обстоятельствам необходимость».218
Период конца XIX – начало XX в. ознаменован промышленным подъемом вследствие притока иностранного капитала и новых технологий, что способствовало образованию новых акционерных компаний. Однако в комитете министров не было единодушия по вопросу привлечения иностранных инвестиций в экономику Российской империи.219 Противники проводимой политики стремились всеми возможными способами тормозить ее осуществление. Сторонники обращали внимание на механизм правового регулирования деятельности иностранцев, который давал возможность не только грамотно использовать капитал, но и контролировать его.
Военное министерство старалось не давать разрешение иностранцам на организацию промышленных предприятий на юге России. В связи с этим в мае 1899 г. на имя начальника главного управления казачьих войск П.О. Щербова-Нефедова поступила докладная записка, в которой говорилось о желательности допуска иностранных предпринимателей в экономику страны в ближайшее пятилетие. Помощник военного министра Голицын писал: «Чтобы эксплуатировать все ископаемые богатства <…>, а равно и споспешествовать широкому развитию остальных отраслей промышленности, неизбежно приходится обращаться за содействием иностранных капиталов. Последние, как показал опыт, благодаря своей солидарности, ставят сразу всякий промысел на твердых основаниях и своим примером способствуют развитию его среди местного населения, доставляя войску крупные статьи дохода, которые при иных условиях вряд ли могли существовать».220
Он обращал внимание на то, что иностранные капиталы вызовут конкуренцию со стороны русских и «должны будут сыграть воспитательную роль» отечественных предпринимателей. Кроме того, устранение иностранцев от занятий промышленностью «не устранит всетаки участия их капиталов, так как оно всегда возможно будет через подставных лиц, и, конечно, окажется не в пользу казачьих войск».221
Обсуждение вопроса об участии иностранных инвестиций в экономическом развитии юга России завершилось резолюцией военного министра. 12 января 1900 г. А.Н. Куропаткин написал: «Надо определить области, имеющие военное значение от иностранцев, особенно англичан, а ныне на Кавказе и от немцев и от евреев, уступок делать нельзя».222
С.Ю. Витте считал, что законодательство не должно сдерживать создание новых предприятий, а, напротив, защищать права их владельцев.223 Особое внимание министр финансов обращал на сепаратное законодательство, так как от принятия положительного решения зависела в дальнейшем деятельность акционерного предприятия. Например, в октябре 1901 г. рассматривался проект устава германского акционерного общества для эксплуатации механических заводов «К. Зигель», деятельность которого должна была распространиться на территорию Области Войска Донского.
Военный министр потребовал ограничить иностранцев в праве управления компанией. Однако Комитет министров 6 ноября принял решение: «по закону иностранцам не воспрещается владение недвижимой собственностью в Области Войска Донского; в собственность учреждаемого общества имеет перейти в названной области лишь незначительная недвижимость в г. Ростов-на-Дону, которая и ныне находится во владении иностранных подданных; ограничение иностранцев в управлении делами общества в данном случае лишило бы учредителей его – иностранцев возможности принимать активное участие в организуемом предприятии, в коем они уже участвуют в настоящее время; введение в устав <…> каких-либо ограничительных по отношению к иностранцам постановлений <…> не соответствовало бы принятому в подобных случаях Комитетом Министров порядку, согласно коему участие иностранных подданных в администрации акционерной Компании ограничивается лишь в том случае, когда Компаниям этим дозволяется приобретение земель в местностях закрытых для иностранного землевладения, или же относительно рода деятельности таковых обществ имеются в законе какие-либо ограничения для указанной категории лиц постановления».224 16 ноября 1901 г. устав компании был утвержден и определен основной капитал общества в размере 3 млн. рублей.225
27 января 1903 г. накануне переговоров о возобновлении торговых отношений с Германией, Австро-Венгрией, Болгарией Николаем II было утверждено предложение Государственного Совета «Об ограничении торговых прав подданных иностранных государств, не представляющих русской торговле и мореплаванию равноправности с торговлей мореплаванием наиболее благоприятствуемой страны», носившее секретный характер. Законом вводились репрессивные меры в отношении тех государств, которые не «предоставят фактически русской торговле и мореплаванию равноправности с торговлей и мореплаванием наиболее благоприятствуемой державы»226, если бы переговоры не увенчались успехом.

