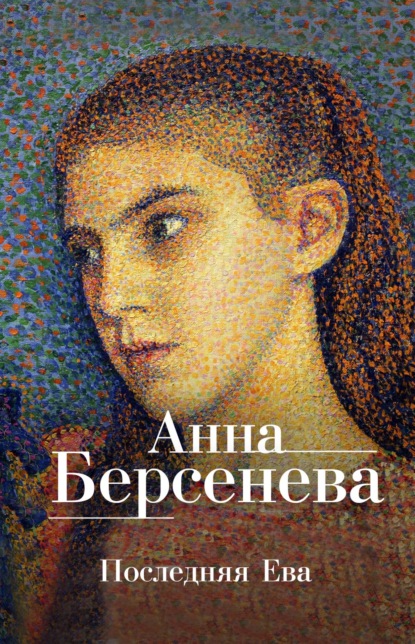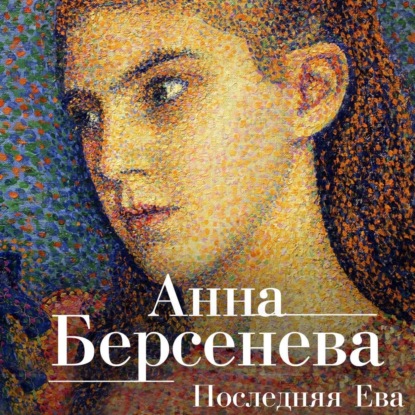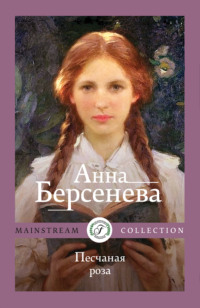Полная версия
Неравный брак
– Конечно, – кивнул он. – Теперь я уверен, что смогу писать ваш портрет по памяти.
Льняное платье принесли ей домой назавтра. В большую серебристую коробку, кроме трахта, был упакован сувенир от хозяйки бутика – крошечная фарфоровая куколка-поселянка точно в таком же наряде. Розовый букетик у корсажа был заменен на нежно-лиловый. Головки невянущих колокольчиков, из которых он был составлен, трепетали от каждого вздоха.
Ева чуть в обморок не упала, увидев все это. Вчера она, конечно, успела заметить цену: платье было немногим дешевле подержанной машины…
«Дорогая Ева! – было написано на вложенном в конверт листке с монограммой. – Прошу вас, не воспринимайте этот подарок иначе как сувенир. Будучи в Москве, я ведь смогу себе позволить принять от вас в качестве сувенира матрешку или еще что-нибудь национальное? Буду счастлив, если трахт напомнит вам о Вене. Искренне ваш Вернер де Ферваль».
К Евиному удивлению, Лева отнесся к этому подарку именно так, как предлагал господин де Ферваль. Может быть, просто не представлял себе его цену?
– В самом деле, Евочка, – засмеялся он, – ну, не лифчик же он тебе подарил. А платьишко, видишь, эдакое фольклорное, и впрямь сувенирное – самое то. Вполне пристойно, неброско и со вкусом.
Возражать мужу Ева не стала – зачем? Вернера она поблагодарила при встрече и тоже не стала произносить никчемных слов, которые прозвучали бы в этой ситуации просто глупо. Но надеть трахт она так до сих пор и не решилась – повесила в дальний угол шкафа.
И вот теперь Вернер пригласил ее послушать «Отелло». Приглашение было сделано с таким же непринужденным изяществом, с каким он делал ей все свои предложения: прокатиться в фиакре, или посетить хойриген, или вместе взглянуть на дома, построенные в знаменитом венском югендстиле.
Не то чтобы Еву очень тяготило одиночество. С детства живя в своем, мало кому понятном и мало кому интересном мире, она привыкла чувствовать себя немного отдельной от окружающих. Хотя, конечно – вдруг оказаться без работы, без привычного семейного и дружеского круга, остаться только с мужем, у которого хватает своих разнообразных занятий…
Господин Ферваль стал единственным человеком в Вене, общение с которым разнообразило Евину жизнь. Даже время от времени возникающие промельки неловкости этому не мешали – настолько он был интересен, глубок, учтив и сдержан.
Как она и предполагала, Вернер заехал за нею не на «Роллс-Ройсе» – у подъезда девятиэтажного дома стояло такси. Шофер вышел из машины и помог Еве сесть.
«В самом деле, – подумала она, – ведь это гораздо удобнее, чем возиться с машиной, искать парковку. Возле Оперы наверняка нет свободных мест, издалека пришлось бы идти, каблуки о мостовую ободрались бы…»
Несмотря на помощь шофера, она все-таки зацепилась за дверцу машины высоким тонким каблуком и едва не упала на господина Ферваля, сидевшего на заднем сиденье. Ее открытое плечо на мгновенье коснулось его выбритой щеки, Ева почувствовала тонкий и свежий запах его одеколона – и тут же вздрогнула, отшатнулась. Ферваль поддержал ее под локоть.
– Извините. – Хорошо, что в машине было не так светло, как на улице: Вернер едва ли заметил, как она покраснела! – Я не опоздала?
– Нисколько, – невозмутимо ответил он. – У нас вполне достаточно времени, чтобы спокойно доехать и занять свои места.
В смокинге господин Ферваль выглядел так же безупречно, как в любом другом костюме. Ева давно заметила, что австрийцы непременно подбирают одежду «к случаю», руководствуясь при этом устоявшимися правилами. В отличие даже от немцев, часто приезжавших в ее московскую гимназию по обмену. Те в основном одевались «к настроению»: что под руку попадет, лишь бы чистое.
Живя в Москве, Ева, конечно, не раз бывала в Большом театре. Сама по себе роскошь старинного театрального убранства едва ли потрясла бы ее. Но здесь, в Венской опере, она еще в прошлый раз почувствовала нечто иное: размеренный, подчиненный незыблемому порядку ход жизни. Он был ощутим и в гуле театральных коридоров, и в классическом интерьере зала, и в полумраке ложи, куда Вернер провел свою даму за несколько минут до начала спектакля. Еве показалось, даже бриллианты у нее на шее и в волосах становятся частью всего того, что вечер за вечером с потрясающей неизменностью происходит в этом зале.
И эта священная незыблемость в сочетании со взволнованным ожиданием оперного действа отозвалась в ее сердце трепетом, едва ли не страхом. Она инстинктивно прикоснулась к рукаву Вернерова смокинга, на минуту забыв о сегодняшней неловкости в такси.
Неожиданно он накрыл ее пальцы своей рукой – и, мгновенно опомнившись, Ева замерла. Его рука была суха и ободряюще прохладна. Сначала она не решалась высвободить свою руку, а потом зазвучала увертюра, открылся занавес, потом появился на сцене Пласидо Доминго – и Ева просто забыла…
– Вы не будете против, если мы прогуляемся немного? – спросил Вернер. – Поужинаем после спектакля?
Ева была так взволнована, так ошеломлена впечатлениями сегодняшнего вечера, что и сама не могла представить, как сядет сейчас в такси, останется одна в потоке своих чувств… Она кивнула и взяла Вернера под руку.
– Кажется, сегодняшнее исполнение вам понравилось, – заметил он. – У меня абонемент на сезон, я слушаю все, что стоит послушать, и тем не менее тоже сегодня взволнован. Вы чуткий и трепетный человек, – добавил он после короткой паузы.
Они медленно шли по оживленным вечерним бульварам. Ева молчала, предоставляя Вернеру самому выбирать маршрут. Есть ей совершенно не хотелось, о чем она с некоторым смущением сообщила своему спутнику.
– О, совсем не обязательно устраивать праздник желудка! – засмеялся он. – Мы можем не заказывать штельцен, а просто посидеть вдвоем, попробовать какое-нибудь легкое блюдо, выпить вина… Вы согласны?
Штельцен, запеченную свиную ножку, Ева не осилила бы сейчас ни за что.
– Конечно, – кивнула она. – Я в самом деле как-то взвинчена после этой музыки, после всего…
Она не заметила даже названия ресторана, в который незаметно привел ее Вернер. Обратила только внимание, что зал выдержан в классических винно-красных и золотых тонах, а приборы сверкают серебром. Кажется, столик был заказан заранее. Солидный, гренадерского роста обер сразу провел их в другой конец зала, к окну.
– Сегодня есть повод выпить шампанского. – Вернер поднял бокал, брызги света блеснули в хрустальных гранях. – За вас, моя дорогая фрау Гринефф, за ваше счастливое пребывание в Австрии! Я правильно произнес вашу фамилию – кажется, вы говорили, что оставили девичью?
– Я очень вам благодарна, Вернер, – ответила Ева, отпив глоток. – Если бы не вы, мое пребывание в Австрии не было бы таким… насыщенным. А фамилия действительно девичья, – улыбнулась она. – Мне почему-то хотелось оставить. Может быть, я просто привыкла к своему школьному прозвищу. Знаете, как меня называли ученики?
– Да, ведь вы преподавали. И как же? – заинтересовался он.
– Капитанская Дочка.
– Почему? – удивился Вернер.
– Просто из-за фамилии.
Ева вкратце рассказала про пушкинскую повесть. Когда она говорила, что-то дрогнуло вдруг у нее в сердце – так тонко и остро, что она даже прервала на несколько секунд свой рассказ. Почему-то вспомнился Юра, мгновенно и больно вспомнился, как будто с ним что-нибудь случилось. Хотя брат уже почти год как вернулся с Сахалина в Москву, волноваться было вроде бы не о чем…
– Я постараюсь это прочитать, – сказал Вернер. – Я читал «Евгений Онегин» по-немецки и по-французски, переводы были прекрасные, но все-таки я не совсем понял, почему же… Впрочем, это неважно!
Обер принес большие тарелки с телячьими рулетами и красное вино.
– Мне неловко, что я болтаю о своем, вместо того чтобы высказать впечатления от спектакля, – вспомнила Ева.
– Не вижу никакой неловкости, – возразил Вернер. – Извините, моя дорогая Ева, но впечатления, в том числе и от Доминго, написаны у вас на лице. Я читаю их по нему как по книге, – улыбнулся он.
– А мне и Юра, это мой брат, говорил в детстве, что у меня все на лице написано! – засмеялась она. – Мы с ним играли в гляделки – знаете, когда надо долго-долго смотреть друг другу в глаза, не моргать, не смеяться и угадать, кто о чем думает. Он всегда угадывал сразу, а я вообще не могла. Юра у нас такой, что, если сам не захочет, – ни за что не догадаешься.
– Вам дорог ваш дом… – медленно, словно о чем-то размышляя, произнес Вернер. – Вам дорога ваша семья, эти школьники, которых вы учили… Как вы оказались здесь?
– Но ведь я… – даже растерялась Ева. – Ведь я приехала с мужем. Разве я могла оставить его так надолго в одиночестве? Он любит меня, я нужна ему, и я не понимаю…
Вернер молча смотрел на нее своими небольшими, глубоко посаженными глазами. По его испытующему взгляду она не могла догадаться, зачем он задал этот странный вопрос.
– Извините, – наконец произнес он. – Извините меня за столь глупую бесцеремонность. К тому же я счастлив, что вы оказались в Вене, поэтому мой вопрос особенно неуместен.
Она опустила глаза. Сразу вспомнились все неловкости, то и дело вспыхивавшие между ними, и как она сегодня прикоснулась плечом к его щеке и щека мгновенно напряглась, и как он накрыл ее руку своей ладонью…
– А ведь я никогда не видела ваших работ, Вернер! – Ева хотела непринужденно переменить тему, но, кажется, ее слова все-таки прозвучали слишком торопливо. – Я почему-то думаю, что они не могут быть дилетантскими. Вы выставляетесь? Интересно было бы увидеть каталоги… Знаете, у меня ведь младшая сестра художница, но ей всего двадцать лет, она еще учится.
– Почему же каталоги? – спокойно сказал Вернер. – Я с удовольствием покажу вам свои работы. Приглашу вас к себе на чашку чаю, и вы увидите все, что пожелаете. Правда, я живу в основном за городом, поэтому на городской квартире у меня не много работ.
– Непременно, Вернер, – поспешно кивнула Ева. – Конечно, я как-нибудь обязательно приду, мне очень интересно.
К счастью, обер принес наконец десерт – ягоды, политые ванильным сиропом. Потом последовал кофе, потом Вернер выпил коньяка, и разговор о картинах не возобновился.
Лева не спал, когда Ева тихо открыла дверь квартиры. Он сидел в глубоком кресле и, перевернув недавно купленную статуэтку, рассматривал в лупу какую-то надпись на ней.
– Наконец-то! – воскликнул он, как только Ева появилась в дверях гостиной. – Ужинать, наверно, возил Габсбург? Что ели, Евочка, где? Да, а Доминго-то как, расскажи скорее! Смотри, хоть граф твой и весь из себя аристократ, и, как ты говоришь, порядочный, а как бы я не приревновал, – добавил он с легкой усмешкой.
Сделав вид, что не расслышала последних слов, Ева села на диван напротив мужа и начала рассказывать о спектакле и о Пласидо Доминго.
Глава 5
И отмеренные радости бывали, и случайные неловкости, но обо всем этом Ева думала в последнее время мало. По-настоящему ее волновала только одна мысль – та самая, ни с того ни с сего возникшая на Лакомом рынке, когда случайно мелькнули в голове эти «киндер-кюхен-кирхе»…
Выйдя замуж, Ева почти не задумывалась о том, хочет ли иметь ребенка. Даже не то чтобы не задумывалась – все-таки тридцать четыре, волей-неволей задумаешься, – а скорее отодвигала от себя эту мысль.
Семь лет назад, когда она безоглядно влюбилась в Дениса, ей было просто не до того: она думала только о нем, день и ночь о нем. И о своей неопытности, глупой в двадцать семь лет, о неумелости каждого своего движения, о том, что вот-вот ему надоест все это, обязательно надоест… Потом, когда их отношения вошли в будничную колею, Денис честно предупредил, что не собирается иметь детей и долго еще не соберется, поэтому лучше бы Еве не питать на этот счет пустых надежд.
А Ева и сама уже понимала в то время: зачем рожать детей такой женщине, как она? Можно подумать, спасибо они потом скажут мамочке за то, чем она их, скорее всего, наделит. За бесполезную созерцательность, за неумение распорядиться собственной жизнью, за всю эту бестолковую никчемность! Едва ли они будут ей благодарны… А заводить ребенка «на старость», как заводят страховой полис, как после тридцати заводят детей многие одинокие женщины, – этого она просто не могла.
Но теперь-то все переменилось! Она ведь поняла наконец: лучше решиться хоть на что-нибудь, чем потом всю жизнь корить себя за то, что не решилась ни на что. Именно об этом говорил ей пан Серпиньски. «Я не угадал свою судьбу, и сквозь пальцы ушло мое жиче», – так он говорил. И смотрел – как из зеркала, даже страшно было встречать взгляд его печальных, с глубокой поволокой серых глаз. Ева только это – глаза своего отца – и вспоминала год назад, давая наконец согласие Льву Александровичу…
И если она решилась, если вышла замуж за единственного человека, который этого хотел, которому она была нужна, – зачем же откладывать остальное? Лева стал ей прекрасным мужем и наверняка станет прекрасным отцом ее ребенку.
Она почувствовала, что снова должна решиться – и… И что? Едва она сказала себе: «Теперь пора», – как тут же поняла, что эти патетические слова не имеют никакого практического смысла. Пора, не пора – какая разница, что она внушает себе, гуляя по милой сердцу Вене? Все равно, живут они с Левой вот уже год, а…
– К моему глубокому сожалению, мне пока нечем вас порадовать.
Голос врача был так же вежлив, как и взгляд – как, кажется, были вежливы и его руки во время осмотра. Ева поймала себя на совершенно идиотском желании: ей захотелось, чтобы доктор Вагнер расхохотался, или заорал, или упал на пол и как ребенок замолотил бы ногами о коврик у стола.
– Вы думаете, отсутствие беременности не… не случайно? – выговорила она. – Вы думаете, я… вообще не могу иметь детей?
– О, как можно делать такие выводы! – Доктор Вагнер, конечно, не упал на пол, но рукой все-таки взмахнул. – После одного осмотра – такие поспешные выводы, фрау Гринефф, это неправильно, уверяю вас! Я всего лишь сообщаю вам свои предположения, не более. Мне кажется, у вас непроходимость фаллопиевых труб. Но потребуются анализы, исследования, потребуется осмотреть также вашего супруга, и только потом я смогу дать квалифицированное заключение и свои рекомендации.
– Я понимаю, – кивнула Ева. – Извините, господин доктор, я слегка растерялась.
– Ну, разумеется, – доброжелательно улыбнулся он. – Женщин это часто пугает. Хотя на самом деле надо не пугаться медицинских терминов, а всего лишь набраться терпения – и все может быть в порядке. В Шотландии – вы, конечно, слышали? – успешно завершились грандиозные опыты по клонированию овец. Как знать, не станем ли мы вскоре свидетелями чудес! Наука совершает их, не правда ли? Счет придет вам на дом, фрау Гринефф, вы оплатите со своего конто, а потом направите в вашу страховую компанию копию оплаченного счета для возмещения расходов.
Ева вышла из университетской клиники.
Шотландия, овцы… Что там с ними делают грандиозное, забыла… Да, чудеса, наука… Придет счет…
Слово «счет» вывело ее из заторможенного состояния. Страховка у них с Левой была самая дешевая, от несчастных случаев и острых заболеваний. А что еще может понадобиться за границей? Плановый осмотр гинеколога в перечень страховых случаев не входит, так что копию с оплаченного счета делать ни к чему. Да и конто был у них открыт на Льва Александровича: на него приходила университетская зарплата, с него Лева платил за квартиру. Авторские за исполнение песен ему передавали из Москвы с оказией.
Еве счет в банке был просто ни к чему: все равно денег есть столько, сколько есть – впритык, хоть в банке держи, хоть в кошельке. А тот возраст, в котором интересно засовывать карточку в банкомат, она давно уже миновала.
Когда Ева вошла в квартиру, муж не вышел ее встретить. Не потому, конечно, что не хотел видеть, – просто не услышал. Их здешняя квартира была просторна, и ключ поворачивался в замке бесшумно.
Качество жилья в Вене, как и предполагал Лева, несравнимо было с Москвой. Квартира, в которой они жили вот уже полгода, считалась далеко не первым сортом и все-таки производила на Еву впечатление роскоши. Кухня отделена была от столовой барной стойкой и невысокой ступенькой в форме басового ключа. Спальня плавно переходила в гостиную, между ними высокой асимметричной дугой выгнулась арка. Окно занимало почти всю стену гостиной, и за ним на длинной лоджии росли цветы.
Все эти с живой неправильностью выгнутые линии, как и большие окна, создавали ощущение пространства, простора, свободы. Даже в мебели, которая никак не могла быть дорогой в казенной квартире, чувствовался стиль – неброский, но изящный.
Ева считала, что ей и делать-то ничего не пришлось для создания утонченного уюта, о котором говорил ее муж. Тем более что «утончать» приходилось из подручных материалов – то есть практически из ничего.
– Конечно, Евочка, – говорил Лева, когда они еще только въехали в эту квартиру, – если бы в твоем распоряжении были настоящие деньги, ты сделала бы дом таким, что… У тебя же прирожденный гармонический талант, ты для всего можешь найти единственно правильное место!
Насчет гармонического таланта – это он, пожалуй, преувеличил.
– Да в чем же талант, Лева? – смеялась тогда Ева. – Что горшок цветочный вместо свечки приспособила?
Эту композицию на мраморном столике она выдумала случайно, а получилось и вправду неплохо. Прозрачные стебли неизвестного растения свисали вниз, оплетая витую ножку старинного подсвечника. А когда растение неожиданно зацвело, вышло еще лучше: цветок казался теперь странным сиреневым огоньком несуществующей свечи.
Были еще какие-то мелочи, которым Ева тоже не придавала значения.
– Это потому, – объяснял Лева, – что ты недавно замужем. До сих пор у тебя не было стимула заниматься домом, вот ты и не знаешь собственных возможностей.
К университетским занятиям Лева обычно готовился в столовой. Ему нравилось, чтобы Ева была в это время поблизости – что-нибудь готовила, или гладила белье, или просто читала, сидя на высоком стуле, книжку положив на барную стойку и подперев рукой подбородок. Он говорил, что жена оказалась его талисманом: вон уже и твердая ставка маячит на его академическом горизонте, а там и вообще…
А стихи он всегда сочинял в спальне – лежал на кровати, смотрел в потолок, вскакивал, выходил на лоджию.
Оказывается, и сейчас Лева был на лоджии, потому и не слышал, как вошла жена.
– Евочка! – обрадованно произнес он, появляясь в балконных дверях. – Куда это ты пропала? А я, когда с работы шел, даже по кофейням пробежался на Стефанплатц, думал, ты с Габсбургом своим беседуешь.
– Ты обедал?
Ева прошла в комнату, села на диван, положила руку на подушку в ярком чехле. Ковер был в тон подушке – тоже яркий, в разноцветных пятнах. Пятна расплывались в ее глазах. Она тряхнула головой – что за глупости, при чем здесь ее глаза, они и так расплывчатые, эти пятна, просто ковер такой, дизайн…
– Что ты сказал? – переспросила она.
– Что не обедал. – Лева смотрел с недоумением. – Тебя ждал. Работал, новое написал – не для песенок, свое… Хочешь послушать?
– Потом, Лева. Я хочу поговорить с тобой.
Недоумение на его лице сменилось легким недовольством: наверное, обиделся, что жена так равнодушно отнеслась к его новым стихам.
– Так срочно? – поморщился он. – По-моему, утром новостей у тебя не было. Или за полдня что-нибудь случилось?
– Нет, – покачала головой Ева. – Или случилось? В общем, это неважно. Я к врачу ходила, в университетскую клинику.
– Господи, да что с тобой? – ахнул Лева.
Конечно, он испугался: страховка-то от несчастных случаев.
– Ничего страшного, – улыбнулась Ева. – Я просто так, провериться. Регулярный осмотр.
– У гинеколога? – догадался он. – А… на какой предмет провериться? Женское что-нибудь? Или, может, беременность?..
– Нет, – несколько секунд помедлив, ответила она. – Совсем нет.
– Ну, что ж тогда волноваться! – облегченно улыбнулся он. – Не больна, не беременна, все прекрасно. Конечно, тебе надо регулярно проверяться, а я как-то не подумал, когда страховку оформлял. Ну, ничего, оплатим. Давай пообедаем, Евочка, я же все-таки работал! Не дрова колол, конечно, но стишок накропал, и недурной, между прочим. Только уж теперь после обеда прочту. – Не дожидаясь, пока жена займется обедом, Лева сам обошел барную стойку, включил плиту. – Борщ у тебя вышел великолепный, я ложечку попробовал, не разогревая. По мне, Евочка, черниговские рецепты твоей мамы – это высший пилотаж, куда венскому шницелю!
Ева тоже встала, поднялась на ступеньку кухни, едва не споткнувшись о завиток «басового ключа».
– Лева, – повторила она, – я хочу с тобой поговорить. Ты понимаешь, врачу кажется, что это и невозможно…
– Что – невозможно?
Он нарезал хлеб, положил в большую деревянную миску.
– Невозможно, чтобы была беременность. Ему кажется, у меня непроходимость труб. То есть я не могу иметь детей.
Лева наконец обернулся к ней, подошел к стойке. Они стояли по обе стороны деревянного барьера; Ева опустила глаза.
– Ну, что ж… – услышала она Левин голос. – Это, конечно, неприятно, я понимаю. Ты же совсем молодая, Евочка, это я у тебя старичок…
Он ласково погладил жену по руке. От его ласковых слов, оттого, что он жалеет ее, пытается утешить, Ева почувствовала, как слезы подступают к горлу. Она подняла глаза на мужа, хотела сказать, что ему не нужно ее успокаивать, что она все сделает, чтобы… Но Лева продолжил фразу, и Ева не успела произнести ни слова.
– Положа руку на сердце, милая, я не скажу, чтобы очень уж расстроился, – так же ласково, успокаивающе продолжал он. – Ну, не можешь – что ж теперь, жизнь кончена? Я понимаю, для женщины это самая проторенная дорожка: пеленки – то есть да, теперь уже не пеленки, а памперсы! – игрушки, потом отметки в школе и все такое прочее. Но ведь ты… Евочка, разве ты из тех женщин, которые хотят идти проторенной дорожкой? Да я сразу в тебе другое заметил – твою душу особенную, такую глубокую, ни на чью не похожую! Меня это потрясло, восхитило, я понял: вот такая женщина мне и нужна, о такой я мечтал! Неужели ты думаешь, я женился на тебе, чтобы иметь детей? Я же не Габсбург, – не удержался он от усмешки, – чтобы так уж печься о наследниках.
– Но что же, Лева, – потрясенно выговорила Ева, – значит, ты и вообще… То есть вообще не хочешь иметь со мной детей? Или просто не думал об этом?
– Если честно – не хочу. – Это он наконец произнес твердым тоном. – Ева, ну подумай сама: почему я должен хотеть детей? Мне что, тридцать лет? Не тридцать, милая, и даже уже не сорок. И что такое дети, я хорошо себе представляю – двое выросли, как тебе известно. В моем возрасте снова ходить по стеночке, снова эти вопли по ночам, изрисованные обои, кошки и собаки в доме? Да ты что, дорогая моя, я же не сумасшедший! Ну, может, случись такое дело, я бы не стал требовать, чтобы ты убрала беременность, – несколько смягченно добавил он.
«А почему бы ему не смягчиться? – подумала Ева. – Уже ведь знает, что «такое дело» наверняка не случится…»
– В конце концов, – продолжал Лева, – твои родители не старше меня, ребенок вполне мог бы находиться у них. Хотя бы пока мы здесь, – поспешил он добавить, – а там видно было бы… Тем более Надежда Павловна не работает. Но если нет, то и суда нет! Извини мою прямоту, Евочка. – Он снова погладил ее по руке. – Не думаю, что ты хотела бы услышать от меня ложь.
«Я ничего не хотела бы от тебя слышать», – едва не вырвалось у нее.
Но, сдержав эти злые, резкие слова, она все-таки сказала, сама не понимая зачем:
– Это еще не окончательно. Неокончательный диагноз. Анализы нужны будут, обследования…
Что ж, Льву Александровичу невозможно было отказать в сообразительности.
– А вот это, пожалуйста, без меня, – отрезал он. – Анализы, обследования – этим я заниматься не буду. Я, солнышко мое, не сторонник феминизма, да и ты, мне кажется, тоже. И у меня есть четкие представления о том, что мужчина делать обязан, а что, извини, превращает его в бабу. Я обязан работать и обеспечивать нашу жизнь. По-моему, я делаю это неплохо. Притом, заметь, не превращаю тебя в домашнюю клушку, помогаю по хозяйству. Но таскаться по обследованиям, выслушивать душеспасительные лекции, сперму сдавать на анализ… Вот этого я делать не обязан, и делать это я не буду! Лучше тебе понять это сразу, Ева, чтобы не питать пустых надежд.
Про пустые надежды ей уже говорил Денис. Что ж, все закономерно, и случайностей в жизни не бывает. В ее жизни точно так же, как во всякой другой.
Не ответив мужу, Ева шагнула назад от кухонного барьера и, опять едва не упав со ступеньки, вышла из столовой.
Глава 6
Это была их первая ссора.
Лев Александрович с самого начала сумел поставить отношения с женой так, что никакая натянутость – а тем более со взаимными упреками, с прямым выражением недовольства – была между ними просто невозможна. Это не тяжело ему далось: Горейно не отличался взрывным темпераментом и умел уважать жену. Да и Ева не питала склонности к бурным сценам, и она предпочитала ровные, спокойные отношения.