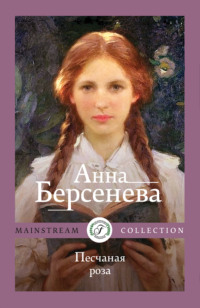Полная версия
Этюды Черни

Анна Берсенева
Этюды Черни
©Берсенева А., 2013
©Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2013
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
Часть I
Глава 1
«Жизнь несправедлива, это всем известно. Но все равно приходится каждое утро вставать и думать, чем ее наполнить».
Сон сразу улетел. Саша сбросила одеяло и встала босыми ногами на холодный пол. Любой намек на патетику ей претил, и не стоило удивляться, что эта хоть и точная, но слишком пафосная утренняя мысль показалась ей неприятной.
Вдобавок день ей предстоял бессмысленный и медлительный. Вечерний концерт, в котором она приглашена была участвовать, был даже не концертом, а просто заработком, особой внутренней сосредоточенности не требовал, и, значит, время до него не шло и уж тем более не летело, а просто тянулось.
И вот она ходила по комнатам и тянула время. Когда-то дед говорил ей, сидящей за фортепиано:
– Саша, ты не играешь, а просто время тянешь.
И как он только догадывался об этом по этюдам Черни, которые она проигрывала один за другим? Саша ни тогда этого не понимала, ни сейчас.
Но дед давно умер, а кроме него, никто ее насквозь не видел, так что и разоблачить не мог, да и музыканты они с дедом в семье были единственные.
В общем, Саша бродила по квартире, пила молоко с маслом и медом – не из-за простуды, а просто для голоса, – примеряла концертные платья – ни одно не казалось ей подходящим к случаю – и скучала. В самом драгоценном смысле этого слова: скука есть отдохновение души, как известно.
К тому же, скучая, очень удобно молчать. Это было второе ее личное правило, умолкать за несколько часов до концерта, и она всегда предпочитала проводить время своего молчания в одиночестве.
И почему пришла ей с утра пораньше в голову странная мысль о несправедливости жизни? Что уж такого несправедливого лично с ней происходит?
Вопрос, впрочем, был не из толковых. Саша вспомнила, как вопросом такого рода огорошила ее в одних вполне приятных гостях – хозяева были журналистами, и дом у них был открытый, вечно полный интересного народу, – одна вполне приятная дама, собиравшая подписи в защиту бездомных собак. В отличие от большинства подобных активисток она выглядела вменяемым человеком. От страданий бездомных собак разговор тогда каким-то образом свернул на Ленина, и Саша заметила, что давно пора бы убрать его с Красной площади, нечего выставлять труп убийцы напоказ в центре страны. И тут сборщица подписей спросила звонким, очень интеллигентным, с родным московским «аканьем» голосом:
– А что плохого, собственно, лично вам сделал Ленин?
Так неожиданно было услышать такой вопрос именно от этой дамы – наверное, из-за ее интеллигентского выговора, – что Саша даже растерялась. Впрочем, растерянность ее сразу же прошла, и, смерив даму взглядом, она с усмешкой заметила:
– Да лично мне, собственно, и Гитлер ничего плохого не сделал.
И, не глядя больше на собаколюбивую женщину, ушла в кухню, где гудел какой-то классически страстный спор.
Да, и теперь вот ничего несправедливого лично с ней не происходит, но оттого, что странная мысль о несправедливости жизни пришла в голову сразу, как только она открыла глаза, Саша весь день чувствовала легкую досаду. Точно такую, какая бывает, если с утра вспомнишь некстати, что сегодня пятница и тринадцатое число, и как ни уговариваешь себя потом весь день, что не стоит обращать внимания на дурацкие суеверия, тогда они и не сбудутся, – а все равно до вечера не по себе.
Саша приехала в Москву три дня назад, а зачем, и сама не очень понимала. Скучно стало в швейцарской деревне, вот и приехала. И не то странно, что она заскучала, а то, что родители чувствуют себя так, словно вся их жизнь прошла не в мегаполисе, а вот именно в швейцарской глуши.
Утром перед работой и вечером после работы мама берет стеклянную бутылку и идет на ферму за парным молоком. Папа раз в неделю отправляется на шоколадную фабрику за обломками шоколада. Фабрика располагается близ деревни, и за этими обломками, очень дешевыми, ходят все местные жители, и за молоком на ферму все ходят тоже.
На деревенской улице стоит большой холодильник, в нем – свежие яйца, масло, сметана. К дверце прицеплен листок с перечнем цен, по пути с шоколадной фабрики все берут из холодильника кому что нужно и оставляют деньги за взятое.
Саша находила, что все это, конечно, очень мило, но все равно жизнь в швейцарской деревне невыносимо скучна.
Мама считала, что она говорит это из обычного своего упрямства.
– Именно так и должно быть, Сашка, неужели ты не понимаешь? – возмущалась она. – Люди созданы только для такой жизни – разумной, размеренной, погруженной в природу. Тем более люди нашего с папой возраста.
Положим, их шестьдесят лет родителям ни за что не дашь. И непонятно, связана их моложавость с размеренностью природной жизни или все же с тем, что они занимаются поисками в невидимом взгляду пространстве частицы под названием «бозон Хиггса», которая неизвестно даже, существует ли вообще.
Неподалеку от деревни, кроме шоколадной фабрики, располагалось также сооружение под названием «адронный коллайдер», с помощью которого загадочный бозон предполагалось изловить, и именно для этого съехались сюда физики со всего мира, в том числе и Сашины родители.
Но самой ей было там делать решительно нечего, а поскольку и к созерцанию красот природы она была приспособлена плохо, то надолго у родителей никогда не задерживалась – сбегала в какие-нибудь более оживленные места, благо мир большой.
В Москву она от скуки и сбежала, и то, что консерваторский однокурсник Гришка Ислентьев позвал поучаствовать в хорошо оплачиваемом концерте, было не причиной ее приезда, а лишь его параллельной линией, и не линией даже, а так, необязательным пунктиром.
Ну, и в квартире она считала нужным время от времени появляться. Грустно было думать, что запустение, которое Саша чувствовала, приезжая домой, может воцариться здесь навсегда. И хотя, казалось бы, не стоит этому удивляться, раз в квартире годами никто не живет, но всякий раз это зримое запустение било ей в сердце, как только она открывала дверь, и всякий свой приезд она начинала с беспощадной с ним борьбы.
Дело было не в беспорядке или пыли – перед каждым своим приездом Саша звонила Норе, и та заходила прибраться, – а в том, чтобы прогнать уныние и наполнить дом собою. На это у нее обычно уходило три дня.
Кофе хотелось ужасно, но кофе вредил голосу, поэтому Саша не пила его перед концертом, хотя бы даже и перед таким незамысловатым, какой предстоял этим вечером. Молоко с медом и маслом – это был ее личный рецепт певческой удачи, и его она всегда придерживалась.
Когда водитель позвонил снизу, она была еще не одета и даже платье все еще не выбрала. Но оттого, что делать это пришлось поспешно, оно как раз и выбралось правильно – черное муаровое, – и Саша подумала мельком, что это тоже хороший рецепт: любой выбор совершать наскоро, не задумываясь, тогда он будет удачным.
Она приколола к корсажу брошку – крупную бриллиантовую каплю, – набросила на плечи палантин и вышла из квартиры.
Платье было длинное, на улице Саше пришлось приподнять его подол. Из-за этого она вдруг почувствовала себя не то сказочной принцессой, не то французской гранд-дамой, выходящей к карете, чтобы ехать в Оперу. Но всего на минуту она такое почувствовала, и то ей неловко стало: ну что за ерунда, первый концерт в ее жизни, что ли? И не первый, и не сто первый даже, давно пора привыкнуть, да она ведь и привыкла, и неожиданная детская мысль про принцессу – глупость несусветная.
Но глупость эта ее развеселила. И всю дорогу до Волынского Саша чувствовала воодушевление, такое же радостное, как и необъяснимое.
Дни еще были теплыми, но вечерами морозило и воздух казался прозрачнее, чем мог быть в городе, как холодная осенняя вода почему-то кажется прозрачнее, чем теплая летняя. И парковые аллеи выглядели в этом воздухе резкими пронзительными линиями.
К павильону было не подъехать. Машина остановилась у ограды парка, а по аллеям пришлось пройти пешком.
Саша шла под прямыми, в темное небо уходящими соснами, и воодушевление становилось в ее душе таким же острым, как запах осенних листьев, и таким же, как этот запах, самостоятельным, не зависящим уже ни от чего внутреннего, из нее самой происходящего.
Оно просто было, это неясное воодушевление, и поражало собою так же, как осенняя природа.
«Может, предчувствие? – подумала Саша. – Но чего – предчувствие? Концерт какой-то необыкновенный будет или вечную любовь встречу?»
Ни то ни другое не походило на правду. Просто бодрил октябрьский холод.
«Вечерами золко уже», – говорил про такой холод Пашка Солдаткин.
Пашка жил в деревне Кофельцы и все лето проводил в дачном поселке. Он был в Сашу влюблен с пятого по девятый класс и ужасно этого стеснялся. Про его влюбленность все знали и, понятное дело, не упускали случая над ним посмеяться. От насмешек Пашка делался морковно-красным, как его шевелюра, и видно было, что он едва сдерживает слезы, но Саше ни чуточки не было его жалко. Подружка Кира Тенета относилась ко всем Сашиным воздыхателям с сочувствием, а сама она всегда была жестокосердна. Но несмотря на это, у Киры собственных воздыхателей ни в детстве, ни в юности не было, а у Саши они не переводились. Или не несмотря на это, а как раз поэтому.
Да, именно такие вечера Пашка называл золкими. Сидели они все на веранде у Иваровских, глянешь в небо – и звездный свет слепит глаза.
Павильон наконец показался за поворотом аллеи. Он был похож на китайский фонарик – белый, полотняный и ярко светился изнутри.
На площадке перед павильоном толпились многочисленные гости. В толпе ходили клоуны, предлагали что-то вытаскивать из разноцветных бумажных пакетов, смеялись, неожиданно кувыркались. По бокам площадки стояли большие газовые горелки, и от этого казалось, что павильон заключен в жаркую прозрачную капсулу, отделяющую его от темного и золкого, как этот осенний парк, мира.
Под горелками стояли жаровни, на них в блестящих медных тазах варилось варенье. Пухленькая повариха в бело-золотом колпаке ссыпала в сироп нарезанные яблоки и лила коньяк из пузатой бутылки.
«Ну да, Гришка говорил же, осенний яблочный праздник, – вспомнила Саша. – Гостей вареньем развлекают».
Она хотела подойти поближе к жаровням и спросить, зачем лить в варенье коньяк, но не успела – подскочил распорядитель, приговаривая:
– Наконец-то, уже начинаем, а вас все нету, мы волновались, вдруг опоздаете или вообще… – и еще какие-то глупости.
Он провел Сашу вокруг павильона к маленькой двери, за которой открылся полутемный, освещенный одной тусклой лампочкой закуток, отгороженный от остального павильонного пространства занавеской. За этой занавеской шумел зал, шум то и дело перекрывался музыкой, от которой павильон ходил волнами, как цыганская кибитка. По краям закутка стояли стулья, посередине стол и рядом с ним вешалка. У вешалки сидел Гришка Ислентьев и застегивал на себе галстук-бабочку. Зеркала не было, и бабочка застегивалась криво.
– Привет, – сказал он, увидев Сашу. – Шубу не снимай пока, тут холодно.
А хоть бы и тепло – вешалка все равно чуть не падала от уже наваленной на нее одежды. Добавлять к этой свалке палантин из бриллиантовой норки Саша не собиралась.
– Слушай, – сказал Гришка, – давай городские романсы споем?
– Почему вдруг? – удивилась она.
Городские романсы – разнообразные «страдания» – Саша, конечно, знала, но сегодня они собирались исполнять классические хиты в современной аранжировке. Гришка сам ей сказал, что это всегда пользуется успехом на подобных мероприятиях – проверено.
Не то чтобы Саша сильно держалась именно за аранжированную классику, но то, что придется на ходу менять программу, почему-то рассердило ее.
– Мало того что ты мне не сказал, что петь придется на улице, так еще и программу менять? – возмутилась она.
– И совсем, во-первых, не на улице, – возразил Гришка. – К тому же на сцене горелка жарит, горло не простудишь. А во-вторых – ну попросил народ душевное, почему нет?
В общем-то он был прав, и спорить по пустякам не стоило.
– Так, может, вообще «Ой, мороз, мороз» споем? – усмехнулась Саша.
– Может, и споем, – пожал плечами Гришка. – Если попросят. Тебе хорошо там, в Европах, а мы тут ко всему привыкли. Ну, до коней и камышей, надеюсь, не дойдет, – успокоил он. – Эти, у которых праздник, вроде бы из приличной конторы, не киоски у метро держат.
– А что они держат? – без особого интереса спросила Саша.
– Компьютерное что-то. Не грузись, Александра, – улыбнулся он. – Тебе не все равно? Хотели мировую звезду – нате вам мировую звезду. Главное, гонорар хороший.
Что ее следует считать мировой звездой, Саша была уверена не вполне, но спорить не стала. Тем более что и суетливый распорядитель опять появился перед нею, и опять неожиданно, словно просочился сквозь полотняную стену.
– Прошу! – провозгласил он. – Вас уже объявляют.
– Как объявляют? – Саша обернулась к Гришке. – А петь мы что все-таки будем?
– А что на Дунае тогда пели, помнишь? Австриякам понравилось, и этим понравится.
В замке на Дунае они давали концерт около года назад. Гришка приехал тогда в Вену буквально на три дня и сразу же позвонил Саше с предложением спеть под его аккомпанемент на дне рождения какого-то миллионера – «не бойся, не нашего бандита, аристократа австрийского». Подобные предложения просто вихрились вокруг него, и непонятно даже было, когда он успевает играть в московском симфоническом оркестре, где исправно числился третьей скрипкой много лет.
Саша уже забыла, что именно они тогда пели. Конечно, вспомнить это не составляло большого труда, но петь без подготовки все равно было неприятно.
– Мы только в начале пару романсов, а остальное все по плану, – торопливо заверил Гришка.
Ответить Саша не успела.
– Дорогие друзья, вас приветствует звезда мировой сцены Александра Иваровская! – донесся голос конферансье из-за полотняной стены.
– Шубку позвольте. – Распорядитель оказался теперь у Саши за спиной. – Не волнуйтесь, я покараулю, пока вы поете. Глаз не спущу.
Покараулю!.. Затея все больше отдавала провинциальностью. Хотя и павильон выглядел стильно, и парк в Волынском был не хуже, чем Венский лес…
Саша пожала плечами, заодно сбросив распорядителю на руки палантин, и вслед за Гришкой пошла к занавеске, за которой находилось то, что в ближайший час ей предстояло считать сценой и зрительным залом.
Глава 2
– Вот и все! А ты боялась.
Гришка вытер лоб. Он был пухленький, и пот начинал лить с него градом, как только он брал в руки скрипку; это еще с консерваторских пор было известно. Да и газовая горелка действительно полыхала на сцене так, что жарко стало даже Саше в ее муаровом платье с открытыми плечами.
Она чуть было не ответила, что нисколько не боялась, да вовремя вспомнила, что это просто школьная дразнилка.
«Вот и все, а ты боялась – даже платье не помялось!» – продекламировала Саша, вернувшись домой после своего первого школьного дня.
Мама с папой хохотали до слез, а дедушка не понял, почему они смеются.
Но бог с ней, с дразнилкой, – сейчас она чувствовала не страх, а что-то вроде досады. Наверное, это было слишком заметно, потому что Гришка сказал:
– Ты на нерве всегда хорошо поешь.
Саша не успела ответить – администратор подскочил к ним, помахивая конвертами.
– Замечательно выступили, – скороговоркой сообщил он, протягивая конверты ей и Гришке. – Ваш гонорар.
Несмотря на скороговорку, интонация у него теперь была не суетливая, а небрежно-деловитая.
Гришка свой конверт распечатал и пересчитал деньги; Саша не стала.
– Ужин буквально через пять минут, – сказал администратор и исчез так же мгновенно, как появился.
– Какой ужин? – спросила Саша.
– А видела, что у них на столах? – сказал Гришка. – Стерлядки, осетринка. Ну и мы покушаем.
В превкушении стерлядок Гришка даже облизнулся.
– Рыбы, что ли, никогда не ел? – рассердилась Саша.
Ладно еще в голодные годы, когда и бутерброд с колбасой казался лакомством, но сейчас-то что из-за какой-то стерлядки рваться за стол к незнакомым людям? Один из этих людей смотрел на нее не отрываясь все время, пока она пела, и взгляд у него был жаркий, как пламя горелки, и глаза казались черными неостывшими углями, особенно по контрасту с его снежно-белым свитером.
Саша вспомнила этот взгляд и рассердилась: зачем он запомнился, и свитер тоже – зачем? Избыточные житейские наблюдения всегда ее раздражали.
– На халяву и хлорка – творог, – рассудительно заметил Гришка.
«Не пойду я с ними ужинать», – с досадой подумала Саша.
Она сама не понимала, из-за чего эта досада. Что-то не так. Не то.
Занавеска снова откинулась, и вошла официантка с уставленным посудой подносом. Она подошла к столу и, чуть сдвинув свисающие с вешалки пальто, принялась составлять с подноса блестящие судки. В одном из судков была рыба, содержимое других было не различить. Лицо у официантки было хмурое. Или казалось таким в тусклом свете лампочки, во всем неуюте этих странных закулис?
– Это что? – удивленно спросила Саша.
– Ужин ваш, – буркнула официантка.
– Как ужин? Здесь?..
Спрашивать об этом было глупо – едой был уже уставлен весь стол.
– А вы где хотели? – пожала плечами официантка.
Да нигде она не хотела! Но то, что ужин предложен в закутке, словно кошке, было так оскорбительно, что у Саши даже в висках закололо.
– Здесь же не Вена все-таки, – проговорил Гришка.
Тон был извиняющийся. Скорее всего, он тоже вспомнил тот вечер на Дунае, и как они гуляли после концерта в замковом парке вместе с именинником, австрийским бароном, и золотые фонарики, развешанные на деревьях, казались окошками эльфов, и барон рассказывал, что вместе с детьми целый месяц вырезал к празднику эти фонарики из китайской рисовой бумаги…
Вспоминать об этом было так же глупо, как разыгрывать какую-то сугубую ранимость. И не собиралась она ничего разыгрывать. Ей было до того противно, что хотелось только одного: немедленно уехать.
Саша надела палантин – администратор не стал его караулить, а просто пристроил на вешалку – и пошла к дыре, заменявшей в этом заведении дверь.
– Подожди, ты куда? – спросил Гришка.
– К машине.
– А ты уверена, что она есть?
Этот вопрос как-то не приходил ей в голову. Хотя, похоже, это был самый разумный вопрос, который она должна была себе задать.
– Ну так узнай, есть или нет! – сердито бросила Саша. – И скажи, что я к воротам пошла.
– Кому сказать? – донесся ей вслед растерянный Гришкин голос.
Саша не ответила и даже не остановилась.
Глава 3
Она шла по парку и злилась так, как давно ей не приходилось злиться.
Она терпеть не могла чувствовать себя дурой. А никем другим сегодняшний вечер просто не оставлял ей возможности себя чувствовать. Кем должен чувствовать себя человек, который позволяет себя же унижать? Да вдобавок без всякой причины унижать! Для Гришки хоть деньги имеют решающее значение, а она-то чего ради?..
Она отдалась пустому потоку жизни, вот что. Тому потоку, который несет с собою большинство людей, заставляя их совершать поступки просто так, без цели и без причины. У них, у этих людей, нет ни сильных желаний, ни острых нежеланий, ни живых стремлений, ни страстной любви, ни горячей ненависти, ни тщеславия хотя бы – у них нет ничего, что заставляет делать над собой усилие, сопротивляться пустоте и скуке жизни. И вместе с тем нет у них того единственного, что позволяет избегать пустоты и скуки естественным образом, без усилия: фермента молодости у них уже нет. Им исполнилось сорок лет, этим людям, изменился химический состав их организма, и жизнь их стала пуста, и сами они стали пустым местом на карте жизни.
Она знала, что так бывает, но никогда не думала, что так может произойти с ней. Но вот ей исполнилось сорок лет, и это с нею произошло.
Стоило Саше подумать обо этом отчетливо и ясно, как все у нее внутри заполнилось страхом. Получается, это теперь навсегда?! Всегда она теперь будет жить, как пустота на душу положит, и ничто больше не освободит ее душу от этой пустоты, и пение не освободит тоже, потому что оно стало рутинным занятием, и как же это произошло, и когда же произошло?.. И если она не заметила, как это произошло, то и нечего злиться, что ей выносят за ее пение еду, как приблудной кошке, и не провожают домой, и…
Саша почувствовала, что сейчас в голос разрыдается. От пения слезы всегда вставали у нее в горле, она знала об этом и обычно закрывалась после концерта на некоторое время в гримерной, чтобы успокоиться. Но сейчас закрыться негде, и она сама в этом виновата, надо было расспросить Гришку, что такое это Волынское, а не полагаться на его слова: «Ну, знаешь, это где ближняя дача Сталина», – и не полагать, что концерт состоится в каких-то ампирных покоях тирана, на которые, кстати, интересно будет взглянуть. И вообще, с концертными предложениями надо отправлять к своему агенту всех без исключения, и ни при чем здесь студенческое приятельство, и сама, дура, виновата!..
Саше казалось, что она идет прямо к выходу из парка. Но ворот все еще не было видно, и не требовалось большого ума, чтобы сообразить, что идет она, значит, куда-то не туда.
Надо было вернуться к павильону – музыка, гремящая в нем, была еще слышна, хоть и вдалеке, – и попросить, чтобы ее проводили к машине. Но Саша и вообще не любила кого-то о чем-то просить, и тем более не хотела делать это после того, как ей вынесли пайку в плошке.
Она огляделась. Кругом ни зги не было видно.
«Просто тьма египетская», – подумала Саша.
Библейский рассказ про тьму египетскую она едва помнила – мысль ее была связана скорее с рассказом булгаковским. Да и неправильная это была вообще-то мысль: холод превратился уже в настоящий мороз, пар шел у нее изо рта, и при чем здесь в таком случае Египет?
А при том, что все это мысли из пустого потока жизни.
За поворотом аллеи появилась темная фигура. Ну а какая же еще фигура может появиться в темноте?
– Скажите, пожалуйста, как пройти к воротам? – громко спросила Саша.
Встречный не ответил. Их даже двое было, оказывается – второй был пониже ростом, поэтому фигуры сливались в одну, какую-то полувысокую и полуширокую.
Этот встречный, единый в двух фигурах, на Сашин вопрос не ответил. Наверное, сам искал выход из парка. Она пожала плечами и пошла дальше, собираясь пройти мимо него. Но он двигался прямо ей навстречу, не сворачивая.
Чтобы с ним не столкнуться, Саша остановилась, сделала шаг в сторону. Ей вдруг стало не по себе наедине с этим двуединым существом. Кирка Тенета когда-то читала стихи Рубцова: «Лучше разным существам в местах тревожных не встречаться». Может, парк в Волынском не являлся таким уж тревожным местом, тем более что в него и проникнуть-то, минуя охрану, было невозможно, однако ощущение опасности стало острым, и с ним надо было что-то делать.
Но что с ним делать, Саша придумать не успела. Подойдя к ней совсем близко, существо вдруг как-то рванулось, прянуло – и распалось наконец на двух человек, и эти два человека в мгновение ока оказались по обе стороны от Саши.
– Эй, вы что? – воскликнула она.
По-прежнему не произнося ни слова, те схватили ее за локти. Они держали очень крепко, это чувствовалось даже сквозь меховой палантин. Она рванулась из их рук, но сразу же вскрикнула от боли.
– А ну стой! – произнес один из них, высокий.
– Шубу снимай, – выдохнул второй, низкий.
Так вот что, оказывается! Самые обыкновенные грабители. Правда, первые, которых Саша видит в жизни, но, в общем, ничего особенного.
Не палантин жалко, хотя бриллиантовая норка ей очень нравится, к тому же штучка дорогая и куплена в Париже, здесь такой не найдешь. Но самое противное заключается все же не в потере палантина, а в том, чтобы безропотно раздеваться по требованию каких-то ублюдков.
Ну да, знала Саша, знала, что именно так и следует поступить, об этом только из утюга не предупреждали, но вся ее натура протестовала против этого так яростно, что она непроизвольно воскликнула:
– Да пошли вы!.. – и снова рванулась из их рук.
Ее очередной рывок не возымел, конечно, никакого действия. Или нет, возымел все же: свободной рукой высокий коротко размахнулся и ударил ее по лицу. Ее локтя он при этом не выпустил, и, вскрикнув от неожиданности и боли, Саша осталась трепыхаться между ним и низким. Во рту у нее при этом стало солоно: он ударил хоть и без замаха, почти и не ударил даже, а просто ткнул ладонью в лицо, но при этом рассек ей губу.