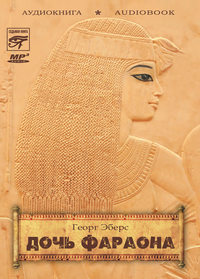полная версия
полная версияДочь фараона
Евнух Богес тоже провел бессонную, но счастливую ночь. Товарищ его и заступавший его место по должности, Кандавл, которого Богес ненавидел, был, по царскому приказанию, немедленно казнен за нерадение, а быть может, и по подозрению в подкупе; Нитетис была не только низвергнута, – после низвержения она впоследствии могла опять возвыситься, – но приговорена к позорной смерти и теперь уже навсегда безвредна для него. Влиянию матери царя нанесен сильный удар. Наконец, Богесу льстило сознание собственного превосходства и ловкого выполнения трудного предприятия, а также улыбалась надежда, через свою любимицу Федиму, сделаться опять, как прежде, всемогущим фаворитом. Смертный приговор, нависший над Крезом и молодыми людьми, был также желателен Богесу, потому что, останься они в живых, огласка устроенной им западни была еще возможна.
Утро уже забрезжило, когда Богес оставил комнаты царя, чтобы отправиться к Федиме. Гордая персиянка еще не спала. В лихорадочном нетерпении ждала она евнуха; слух о происшедшем уже достиг обитательниц женской половины.
Облаченная только в легкую шелковую рубашку, обутая в желтые туфли, изукрашенные бирюзой и жемчугом, окруженная двадцатью прислужницами, она лежала на пурпурном диване в своей комнате. Как только Федима услыхала шаги Богеса, она тотчас выслала невольниц вон, вскочила, побежала ему навстречу и осыпала бессвязными вопросами, которые все касались ненавистной Нитетис.
– Тише, моя голубка, – сказал Богес, положив свои пухлые руки на ее плечи. – Тише! Если ты не можешь быть спокойной, смирной, как мышка, и без вопросов слушать мой рассказ, то сегодня не услышишь ни одного слова. Да, моя золотая царица, у меня найдется так много чего тебе порассказать, что я кончу только завтра, если ты меня станешь прерывать когда тебе вздумается! Ах, моя овечка, мне сегодня еще столько надо сделать! Во-первых, я должен присутствовать при египетском поезде на осле, во-вторых, быть свидетелем одной египетской казни… Но я слишком забегаю вперед; расскажу сначала. Плакать, смеяться, кричать от радости можешь сколько хочешь; но задавать вопросы тебе запрещается, пока я не завершу. Эту награду я заслужил! Ну, теперь я отлично улегся и могу начать. Жил-был в Персии великий царь, у него было много жен, а из них он больше всех любил Федиму и отличал от других. Вздумалось ему раз посвататься к дочери Амазиса Египетского. Послал он большое посольство в Саис со своим братом в качестве свата…
– Глупости! – вскричала Федима нетерпеливо. – Я хочу знать, что случилось сегодня.
– Терпение, терпение, мой неукротимый ветер Адера. Если ты меня прервешь еще раз, то я уйду и расскажу свою историю деревьям. Доставь же мне радость – пережить снова мои успехи. Пока я рассказываю, я чувствую себя так хорошо, как ваятель, который выпустил из рук молоток и рассматривает свое оконченное творение.
– Нет, нет, – прервала его Федима еще раз, – теперь я не могу слушать то, что знаю уже давно. Я умираю от нетерпения. Сколько часов жду я здесь в лихорадочном напряжении. Каждый новый слух, который приносили мне служанки и евнухи, усиливал мое нетерпение. Я в лихорадке и не могу более ждать. Требуй от меня, чего хочешь, но избавь от этого ужасного волнения. Потом, если ты меня попросишь, буду слушать тебя целые дни!
Богес усмехнулся с довольным видом и сказал, потирая руки:
– Еще в детстве для меня не было большего удовольствия, как рассматривать рыбку, трепещущую на крючке; теперь ты, прекраснейшая из всех золотых рыбок, висишь у меня на удочке, и я тебя не выпущу, пока вдоволь не позабавлюсь твоим нетерпением.
Федима спрыгнула с ложа, которое делила с Богесом, и затопала ногами, кривляясь и ломаясь, как избалованное дитя. Евнуху это, по-видимому, доставляло большое удовольствие; он все веселее потирал руки, смеялся до того, что у него показались слезы на мясистых щеках, и осушил много чаш вина за здоровье измученной красавицы, прежде чем начал рассказ.
– От меня не укрылось, что Камбис без всякой другой причины, кроме ревности, посылает против тапуров своего брата Бартию, который привез сюда египтянку. Высокомерная женщина, которой я не должен был сметь ничего приказывать, показалась мне столь же мало расположенной обращать внимание на красивую головку блондина, как еврей на свиное мясо или египтянин на белые бобы. Я все-таки решился поддерживать ревность царя и, посредством ее, сделать безвредной нахалку, которой, по-видимому, удалось вытеснить нас обоих из милости повелителя. Долго и напрасно искал я подходящего случая. Когда, наконец, наступил праздник нового года, все жрецы царства собрались в Вавилоне. Целых восемь дней город был полон торжеств, пиров и попоек. При дворе также была порядочная кутерьма, у меня было мало времени думать о своих планах. Когда я уже совсем перестал надеяться на успех, милостивые Амеша спента послали мне юношу, которого сам Анграманью как бы нарочно создал для моих целей. Гаумата, брат Оропаста, прибыл в Вавилон, чтобы присутствовать при большом жертвоприношении по случаю нового года. Когда я этого юношу увидел в первый раз у его брата, которого должен был посетить по поручению царя, мне показалось, что я вижу призрак – так изумительно он похож на Бартию. Когда я кончил дела с Оропастом, юноша довел меня до колесницы. Я не выказал своего удивления, обошелся с ним дружески и просил его навещать меня. Он явился ко мне в тот же вечер. Я поставил лучшего вина, заставил его пить и еще раз убедился, что полезнейшее свойство виноградного сока – делать молчаливых людей болтливыми. Юноша, опьянев, признался мне, что явился в Вавилон не только для жертвоприношения, но и ради девушки, которая состоит при египтянке главной прислужницей. Он любит ее, рассказывал Гаумата, еще с детства, но честолюбивый брат желает для него более знатной невесты и – чтобы разлучить Гаумату с красавицей Манданой – доставил ей место при новой супруге царя. Наконец молодой человек стал меня упрашивать, чтобы я доставил ему случай перемолвиться словом с его возлюбленной. Я дружески его выслушал, но затруднился дать согласие и в заключение пригласил его на следующий день снова ко мне наведаться. Он пришел. Я сообщил Гаумате, что можно будет как-нибудь устроить свидание, если он решится слепо повиноваться моим приказаниям. Он охотно согласился на все и отправился, по моему распоряжению, назад в Рагэ и только третьего дня тайно приехал в Вавилон. Я спрятал его в своем жилище. Между тем Бартия опять явился. Теперь дело было в том, чтобы снова разжечь в царе ревность и погубить египтянку одним ударом. Твое унижение послужило мне верным средством возбудить ропот твоих родственников против нашей противницы и облегчить мое предприятие. Судьба была особенно благосклонна. Ты знаешь, как Нитетис держала себя на пиру в день рожденья; но тебе еще не известно, что в тот же вечер она послала мальчика-садовника с письмом к Бартии. Неловкий посол дал себя поймать и в ту же ночь был казнен по приказанию разъяренного царя, а я позаботился о том, чтобы Нитетис была совершенно отрезана от всякого сообщения со своими друзьями, как будто бы жила в гнезде симурга[81]. Остальное ты знаешь.
– Но как ускользнул Гаумата?
– Через потайную дверь, только мне известную. Все шло превосходно; мне даже удалось достать кинжал Бартии, который он потерял на охоте, и подбросить его к окну Нитетис. Чтобы удалить князя и помешать ему во время этих событий увидеться с царем или с другими важными свидетелями, я упросил греческого купца Колея (он продает в Вавилоне милетские материи и готов мне всячески угождать, потому что я принимаю от него всю поставку шерстяных материй для женской половины дворца), – упросил его написать мне письмо на греческом языке с просьбой к Бартии от имени его возлюбленной, – она зовется Сапфо, – прийти одному во время восхода звезды Тистар к первому станционному дому, расположенному перед Евфратскими воротами. Но с этим письмом мне не посчастливилось: посланный, который должен был передать его Бартии, не сумел выполнить своего поручения. Хотя он и уверяет, что вручил письмо самому Бартии, но нет никакого сомнения, что он отдал его кому-то другому, по-видимому, Гаумате. Я немало испугался, узнав, что Бартия вечером пировал со своими приятелями. Однако сделанного воротить было нельзя, и притом такие свидетели, как твой отец, Гистасп, Крез и Интафернес, далеко перевесили все уверения Дария, Гигеса и Араспа: первые показывали против общего всем друга, а последние – за него. В конце концов все вышло превосходно. Молодчики приговорены к смерти, а для Креза, который, как всегда, осмелился говорить царю дерзости, скоро наступит последний час. Относительно же египтянки верховный писец написал следующее сочиненьице. Слушай, голубушка, и радуйся:
«Нарушительница супружеской верности, дочь царя египетского, Нитетис, в наказание за свои постыдные дела должна быть казнена по всей строгости закона, а именно: ее посадят верхом на осла и провезут по улицам города, чтобы жители Вавилона видели, что Камбис может так же точно покарать царскую дочь, как его судьи наказывают последнюю нищую. С закатом солнца клятвопреступница будет погребена заживо. Это повеление будет передано для исполнения начальнику евнухов Богесу.
Главный писец Ариабигнес, по поручению царя Камбиса».Лишь только я всунул эти строки в рукав, как в залу протеснилась мать царя, в изодранной одежде, в сопровождении Атоссы. Тут было много рыданий, крика, упреков, клятв, просьб и молений, – но царь остался непреклонным. Я даже думаю, что Кассандана и Атосса, вслед за Крезом и Бартией, были бы отправлены в другой мир, если бы страх перед душой отца не удержал пылающего яростью сына наложить руку на вдову Кира. За Нитетис, впрочем, Кассандана не сказала ни одного слова. По-видимому, она так же твердо убеждена в ее виновности, как ты и я. Влюбленного Гаумату нам тоже нечего страшиться. У меня наняты три человека, которые ему, прежде чем он возвратится в Рагэ, устроят холодную ванну в волнах Евфрата! Рыбам и червям будет славная пожива, ха-ха!
Федима присоединилась к этому смеху, осыпала евнуха ласковыми именами, которым у него же и выучилась, и в знак благодарности надела своими полными руками на мясистую шею Богеса тяжелую цепь из драгоценных камней.
IV
Весть о том, что случилось и что готовится, разнеслась по всему Вавилону прежде, чем солнце достигло полудня. Улицы кишели людьми, которые нетерпеливо хотели видеть редкое зрелище наказания неверной супруги царя. Биченосцы должны были пустить в дело все свои внушительные полномочия, чтобы сдержать напор зевак. Но когда позже распространился слух о предстоящей казни Бартии и его друзей, возбуждение народа, опьяненного пальмовым вином, которое щедро было раздаваемо в день царского рождения и в следующие дни, приняло другой характер. Пьяные, люди толпились на улицах с криком: «Бартия, добрый сын Кира, будет убит!» Женщины, заслышав такие крики, выбегали из уединения, ускользали от стражей, забывали обычные покрывала и спешили на улицу с воплями, следом за разгоряченными мужчинами. Не лишенное радости желание видеть, как смирят гордость неверной царицы, исчезало перед горем предстоявшей казни народного любимца. Мужчины, женщины, дети вопили, кричали, проклинали и возбуждали друг друга к новым, еще более гневным протестам. Все мастерские опустели, купцы заперли свои склады, а школьники и слуги, которым по случаю дня рождения царя обыкновенно давалось восемь свободных дней, воспользовались своей свободой, чтобы на просторе погорланить вдоволь, хотя они сами хорошенько не знали о чем.
Наконец суматоха сделалась так велика, что биченосцы не могли более сохранять спокойствие; явился отряд телохранителей, чтобы очистить улицы. Как только показались блестящие латы и длинные копья, народ отступил и заполонил смежные улицы, но едва солдаты прошли мимо, снова собрался толпами.
Самая большая давка была в так называемых воротах Ваала, к которым выходила улица, обращенная к западу: носился слух, что так как через эти ворота египтянка въезжала в Вавилон, то через них же будет и вывезена с позором. На этом же месте был поставлен и особенно многочисленный отряд биченосцев, обязанность которого состояла в очищении дороги для проходивших в ворота людей. Впрочем, в этот день немногие выходили из города: любопытство оказалось сильнее всяких деловых нужд и желания подышать чистым воздухом; но те, кто прибывал из-за города, почти все оставались у ворот, когда узнавали, какое зрелище предстоит собравшейся там толпе.
Уже солнце стояло высоко на небе, и немного оставалось времени до позорного шествия Нитетис на осле, когда к воротам быстро приблизился дорожный поезд. Впереди ехала так называемая гармамакса на четырех лошадях, потом двухколесная повозка, наконец, повозка с поклажей, запряженная мулами. В первой повозке сидели красивый, видный мужчина лет пятидесяти в персидском придворном наряде и старик в длинной белой одежде; повозку занимало множество невольников в простых рубахах и широкополых поярковых шляпах на коротко остриженных головах. Рядом с последними ехал старик в одежде персидских слуг. Возница первого экипажа с большим трудом пролагал путь через толпу народа для своих лошадей, увешанных кистями и бубенчиками. Перед самыми воротами он был вынужден остановиться и подозвать нескольких биченосцев.
– Очисти нам дорогу! – кричал он начальнику стражи, который со своими людьми подошел к экипажу. – Царская почта не может терять время, а я везу знатного господина, каждая минута промедления которого будет тебе стоить дорого!
– Потише, друг, – возразил начальник стражи. – Видишь сам – сегодня легче выехать из Вавилона, чем въехать в него. Кого ты везешь?
– Знатного господина, который имеет вид на свободный проезд от самого царя. Скорее место нам!
– Гм… поезд-то выглядит не совсем царским!
– Что тебе за дело? Пропускной вид…
– Я должен его посмотреть прежде, чем впущу вас в город! – возразил страж, обращаясь отчасти к путешественникам, которых осматривал внимательно и недоверчиво, отчасти к вознице.
Пока человек, одетый в персидское платье, искал пропускной вид в рукаве своей одежды, биченосец обратился к подошедшему к нему товарищу и сказал, указывая на незначительную свиту путешественника:
– Видал ли ты когда-нибудь такой удивительный поезд? Не называй меня Гивом, если за этими пришельцами не скрывается что-нибудь особенное. Самый обыкновенный расстилатель ковров при дворе царя имеет в путешествии вчетверо большую свиту, чем этот человек, который обладает пропускным видом от самого царя и носит одежду царского сотрапезника.
Заподозренный человек подал стражу шелковый, пропитанный запахом мускуса свиток, на котором виднелись царская печать и несколько букв.
Биченосец взял его и посмотрел на печать. «Печать подлинная», – пробормотал он. Потом он начал разбирать буквы, но лишь только разобрал первые из них, как стал всматриваться в путешественника пристально и, наконец, схватил лошадь за поводья с криком: «Сюда, люди, окружить его: это обманщик!»
Убедившись, что путешественникам ускользнуть невозможно, он опять подошел к чужеземцу и сказал:
– Ты везешь пропускной вид, который не принадлежит тебе. Гигес, сын Креза, за которого ты себя выдаешь, сидит в темнице и сегодня должен быть казнен. Ты на него вовсе не похож и раскаешься в своем самозванстве. Выходи и следуй за мной.
Путешественник и не думал повиноваться этому приказанию, на ломаном персидском языке просил начальника стражи сесть к нему в повозку, так как он имеет сообщить ему нечто важное. Тот с минуту колебался, но, видя, что приближается еще отряд биченосцев, сделал им знак остаться у лошадей, нетерпеливо бьющих копытами, и сел в гармамаксу.
Чужеземец, усмехаясь, посмотрел на начальника стражи и спросил его:
– Похож ли я на обманщика?
– Нет, потому что хотя язык твой болтает неправду, то есть ты вовсе не перс, но все-таки у тебя благородная наружность.
– Я эллин и явился сюда, чтобы оказать Камбису неоценимую услугу. Пропускной вид моего друга Гигеса был одолжен мне им, еще когда он находился в Египте, на случай моего приезда в Персию. Я готов оправдаться перед самим царем и мне страшиться нечего, – а за известия, которые я привез, я могу даже ожидать большой милости. Вели отвести меня немедленно к Крезу, если того требует твоя обязанность. Он поручится за меня и отошлет к тебе обратно твоих людей, в которых ты сегодня, по-видимому, нуждаешься. Раздай им это золото да расскажи мне, в чем провинился мой бедный друг Гигес и вообще что означают эти вопли и суматоха?
Чужеземец говорил хоть и на плохом персидском языке, но с внушающим уважение достоинством и самоуверенностью, притом и подарок его был так щедр, что слуга деспотов, привыкший к унижению, почувствовал себя сидящим в присутствии владетельного лица, почтительно скрестил руки и, оправдываясь своими многочисленными занятиями, начал рассказывать вкратце. В прошлую ночь он стоял на страже в большой зале и потому мог сообщить чужеземцу о происшедшем с достаточной точностью. Грек с большим вниманием слушал рассказчика и часто с сомнением покачивал своей красивой головой, особенно когда речь шла о вероломстве дочери Амазиса и сына Кира. Смертные приговоры, особенно приговор Крезу, казалось, глубоко поразили его; но скоро сострадание исчезло с живого лица грека, уступив место глубокой задумчивости, а вслед за тем – радости, которая показала, что ему пришла в голову хорошая мысль. Суровое достоинство сразу слетело от чужеземца. Весело смеясь и потирая правой рукой высокий лоб, левой он взял руку удивленного перса, пожал ее и спросил:
– А ты будешь рад, если Бартия спасется?
– Невыразимо!
– Хорошо, так я тебе ручаюсь, что ты получишь, по крайней мере, два таланта, если доставишь мне возможность переговорить с царем прежде, чем будет исполнен первый из смертных приговоров.
– Но как могу я, ничтожный человек…
– Ты должен, ты должен!
– Я не могу!..
– Знаю, что чужеземцу трудно, почти невозможно добиться разговора с вашим повелителем; но мое посольство не терпит ни малейшей отсрочки, так как я в состоянии доказать невинность Бартии и его друзей. Слышишь ли, я могу это сделать! Понимаешь ли теперь, что ты должен доставить меня к царю?…
– Но как это сделать?
– Не спрашивай, а действуй! Ты ведь сказал, что и Дарий в числе осужденных?
– Да.
– Я слышал, что отец его – человек высокопоставленный.
– Он первый в царстве после детей Кира.
– Веди меня сейчас же к нему. Он примет меня дружески, когда узнает, что я могу спасти его сына.
– Диковинный чужеземец, в твоих словах столько самоуверенности, что я…
– Что ты склонен мне верить? Скорее доставь нам людей, которые раздвинули бы толпу и проводили нас во дворец.
Кроме сомнения, ничто другое так быстро не сообщается, как надежда на выполнение заветного желания, особенно если эту надежду подают нам с неподдельной уверенностью.
Начальник стражи поверил странному путешественнику, он выскочил, размахивая бичом, из повозки и крикнул своим подчиненным: «Этот благородный господин прибыл для того, чтобы доказать невинность Бартии; его должно сейчас же отвести к царю. Следуйте за мною, друзья, и очищайте ему дорогу!»
В эту минуту показался отряд конных телохранителей. Сотник поспешил навстречу их начальнику и, при одобрительных криках толпы, просил проводить чужеземца во дворец.
Между тем путешественник вскочил на лошадь своего слуги и последовал за персами, которые расчищали ему путь.
Быстрее ветра облетела громадный город исполненная надежды новость. Чем дальше продвигались всадники, тем охотнее раздвигались толпы народа, тем откровеннее выражалась радость толпы, тем более поездка чужеземца становилась похожей на триумфальное шествие.
Через несколько минут всадники очутились у ворот дворца. Еще не открылись перед ними медные ворота, как показался второй поезд, во главе которого медленно ехал седой Гистасп, в черной, разодранной траурной одежде, на коне, выкрашенном голубой краской, с остриженными гривой и хвостом. Он явился умолять царя о помиловании сына.
Начальник биченосцев чрезвычайно обрадовался, заметив благородного старца; он бросился на колени перед его лошадью и, сложив руки, сообщил Гистаспу, какую надежду вселил в них чужеземец.
Гистасп сделал знак путешественнику, который, оставаясь на лошади, грациозно ему поклонился и подтвердил ему слова биченосца. С этого времени он обрел дополнительную уверенность, просил чужеземца следовать за ним, привел грека во дворец, велел старшему жезлоносцу провести себя, Гистаспа, к царю, а греку приказал подождать у двери царского покоя.
Бледный как смерть лежал Камбис на своем пурпурном диване, когда его престарелый родственник вошел в комнату. У ног царя стоял на коленях виночерпий, который старался подобрать черепки драгоценного египетского стеклянного сосуда, нетерпеливо брошенного царем к ногам потому, что ему не понравился содержавшийся там напиток. Многочисленные придворные в почтительном отдалении окружали раздраженного повелителя. На лице каждого из них было написано, что он боится гнева властелина и старается держаться от него сколько можно дальше. Глубокая тишина наполняла обширную комнату, через открытое окно которой врывались ослепительный свет и удушливый зной вавилонского летнего дня. Большая собака хорошей эпирской породы была единственным существом, которое осмеливалось прерывать глубокое молчание своим повизгиванием. Камбис сильным ударом ноги оттолкнул ласкавшееся животное. Прежде чем жезлоносец ввел Гистаспа, царь вскочил с места. Он не мог более выносить ленивый покой; скорбь и гнев душили его. Визг собаки вновь возбудил быстроту мысли в его измученном, алчущем покоя мозгу.
– На охоту! – вскричал он устрашенным царедворцам. Ловчие, конюшие и главный надзиратель псарни поспешили повиноваться приказанию повелителя. Последний крикнул им:
– Я хочу ехать на невыезженном жеребце Рекше. Приготовьте соколов, спустите всех собак, зовите каждого, кто умеет владеть копьем! Мы поочистим заповедник!
Тут Камбис снова лег на диван, как будто эта вспышка совершенно истощила его могучее тело. Он не заметил вошедшего Гистаспа: мрачный взор властелина беспрерывно следил за пылинками, которые неслись в лучах света, проникавшего через окно.
Отец Дария не смел говорить с раздраженным царем, но встал к окну, посреди летавших пылинок, и таким образом обратил на себя внимание повелителя.
Камбис взглянул на Гистаспа и на его разодранные одежды сначала с неудовольствием, потом с горькой усмешкой и спросил:
– Что тебе нужно?
– Победа царю! Твой бедный слуга и дядя пришел воззвать к милосердию своего властелина!
– Встань и уходи! Ты знаешь, что для клятвопреступников и лжесвидетелей у меня нет милосердия. Лучше мертвый, чем такой бесчестный сын!
– Но если бы Бартия оказался невинным, то и Дарий…
– Ты осмеливаешься возражать против моего приговора?
– Далеко от моих мыслей поступать так. Все, что ни делает царь, хорошо и не терпит противоречия, однако…
– Молчи! Не хочу, чтобы снова касались этих мрачных злодеяний. Ты достоин сожаления, как отец; но и мне последние часы не принесли радости; жалею тебя, старик; но наказание твоего сына точно так же не могу отменить, как ты не можешь сделать его преступление несовершившимся.
– Но если бы Бартия все-таки оказался невиновным, если боги…
– Не думаешь ли ты, что небожители покровительствуют обманщикам и клятвопреступникам?
– Нет, государь! Но явился новый свидетель, который…
– Новый свидетель? Право, я охотно отдал бы полцарства, если бы мог убедиться в невинности многих людей, столь близких моему дому!
– Победа моему владыке, оку государства! У дворца ждет один эллин, который, судя по его виду и осанке, принадлежит к числу знатнейших лиц своего племени. Он утверждает, что может доказать невинность Бартии.
Царь горько усмехнулся и вскричал:
– Эллин! Быть может, родственник той красавицы, которой Бартия выказал такую верность? Что может знать чужеземец о событиях в моем доме? Но мне хорошо известны эти ионийские бродяги! Они смело и бесстыдно вмешиваются повсюду и думают нас одурачить своими хитростями и коварством. Сколько ты заплатил новому свидетелю, дядя? У греков ложь так же легко сходит с языка, как у магов слова благословения; я хорошо знаю, что за деньги они способны на все. Любопытно мне видеть твоего свидетеля! Позови-ка его! Но если он намерен мне лгать, то пусть лучше остается там, где он теперь, и не забывает, что, где падает голова сына Кира, там мало будет тысячи греческих голов.
При этих словах глаза царя гневно сверкнули; Гистасп велел позвать эллина.
Не успел последний вступить в залу, как царские жезлоносцы перевязали ему рот платком и велели пасть ниц перед царем. С благородным видом подошел грек к царю, устремившему на него проницательный взор, и, согласно персидскому обычаю, распростерся перед ним, целуя землю.