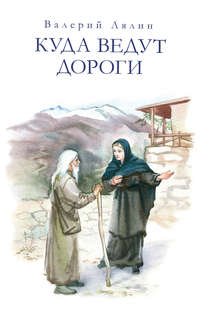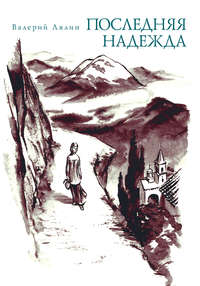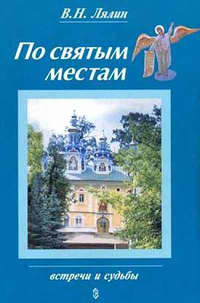Полная версия
Нечаянная радость
На меня это происшествие ужасно подействовало и я, распрощавшись с цирком, уехал в Санкт-Петербург поближе к культурным ценностям по совету нашего клоуна, мужика мудрого и непьющего, который сказал, что одних только музеев в Питере аж сто двадцать три штуки. По приезде в Петербург я быстро нашел на себя спрос, так как имел еще дефицитную специальность сантехника. В районе новостройки сдавали громадный дом, и там я вначале получил комнату. Начальник кооператива сказал мне, что если бы я был женат, то мог бы отхватить однокомнатную квартирку. Я это учел и принял к сведению. Начальник был очень доволен, что я непьющий и сказал: «Мы тебе все условия предоставим, только работай. Зарплата – хорошая, квартирка в перспективе. Кроме того навар с жильцов всегда будешь иметь. Как говорится: “Кесарю – кесарево, а слесарю – слесарево”. Ну, бывай здоров!»
Время я даром не терял и духовную жизнь Петербурга начал изучать в обществе последователей Порфирия Иванова – натурфилософа и вообще крутого деда. По канонам «Детки» я отрастил себе окладистую как у австралийского аборигена бороду, отпустил шикарные до плеч патлы, ходил босой в широких семейных трусах и не плевал на мать сырую землю.
В этом обществе я познакомился с одной девахой, которая комплексовала по поводу своей грубой и дикой фамилии – Кабанова – и пламенно мечтала сменить ее на что-нибудь деликатное, интеллигентное. Узнав, что она комплексует, я подъехал к ней со своей блистательной фамилией – Синегорский, – и мы, столковавшись, заключили фиктивный брак с большой взаимной выгодой. Я из коммуналки перебрался в однокомнатную квартиру, правда, на первом этаже, а деваха Кабанова стала мадам Синегорская.
В новой квартире я первым делом соорудил книжные полки, которые стал заставлять книгами, купленными мной на воскресной книжной барахолке на окраине города. И первым моим приобретением, которое я гордо нес с барахолки, было сочинение Экскартгаузена – «Ключ к таинствам натуры». Затем на полки легки книги Сведенберга, Блаватской, Ани Безант, Рериха, «Махабхарата», Свами Вивиконанда, Суфии Востока, Белая и Черная Магия, старина Поль Брэг – «Чудо голодания» – и множество других подобных и неподобных книг, которые я основательно пропахал и принял к сведению. Посещая молодежные тусовки, я рассказывал что знал, и слава моя росла. У меня появились ученики и последователи, которые стали называть меня «Гуру» и в низком поклоне «брали прах у моих ног».
Библию я тоже изучил основательно, но признал ее книгой примитивной по сравнению с индуской премудростью. И дерзость моя была беспредельна, и я решил испробовать: есть ли сила в церковном Причастии? После Светлой седмицы пошел я в церковь. Народу там было – тьма, и исповедь общая. Таким образом, не имея крещения и без исповеди, я встал в очередь причащающихся. Причащал упитанный небольшого росточка иеромонах Прокл. Сказав свое имя, я проглотил нечто винное и хлебное, что было мне преподано на ложечке, и отошел в сторону, не испытав ничего особенного.
«“Да в пагубу себе причаститеся” – не получается», – подумал я и направился к выходу. Как вдруг дикая боль пронзила все мои внутренности и железным ежом завертелась где-то около копчика. Я облился холодным потом и опустился на пол в углу. Вероятно, я был очень бледен, потому что ко мне подходили люди и спрашивали: не вызвать ли скорую помощь? Я просил вызвать такси. До такси со стонами я шел, держась за стенку. Шофер думал, что я пьян, и не хотел меня везти, но я сразу дал ему деньги, и он отвез меня домой. Когда, наконец, боль прошла, я очертил мелом круг, зажег курительные пирамидки и сел, чтобы творить мантру и медитировать. Через час наступило состояние экстаза, и на стене фосфорическим светом стало мерцать изображение химерического чудовища «Макара», тогда я взял ритуальное зеркало «мелон» и, посмотрев в него, увидел адского козла бафамета, который приказал мне отречься от Христа навеки. И я отрекся.
К весне я уже примкнул к обществу почитателей древне-славянских верований. По всем правилам в березовой роще мы соорудили капище, вырубили из бревна и поставили там торчком Перуна, Велеса, а также развесили на ветках чучела в балахонах и белые простыни. И получилось очень клево. На Ивана Купала мы устроили празднество в честь бога Ярилы. Вначале было камлание перед Перуном и Велесом. Жрец Эдик Фрадкин в белом балахоне и березовом венке на голове ритуально зарезал гуся и помазал кровью богам рты. Затем гуся зажарили на шампуре и все ели – идоложертвенное. После жертвоприношения мужеский и женский пол разделись догола, выкурили по косячку марихуаны и бегали по березовой роще, вдогонку оглашая округу воплями: «О, Перун! О, Велес! О, Ярило!» Скакали через костер, наелись до отвала принесенных с собой блинов, и все стались довольны.
Но со мной после кощунственного причастия, отречения от Христа и языческого празднества стало твориться что-то несуразное. Первым делом плохо стало со сном. Короче, он почти совсем пропал. А если я и засыпал, то сразу начинал давить «домовой», и я в страхе просыпался и уже дальше боялся спать. Днем работа валилась из рук, потому что не выспался. Потом стали являться покойники. Первой ночью прискакала нога иллюзиониста, отбила чечетку и с хохотом ускакала. А затем пошла целая вереница виденных мною мертвецов. Тут был удавившийся в нашей роте чучмек, притаившийся с вываленным фиолетовым языком и веревкой на шее, раздутая от водянки покойная бабушка, задавленный моей машиной на Ставрополье здоровенный боров с выпавшими кишками и разные другие мертвецы, которые не уходили, а поселились у меня на квартире и переговаривались между собою ржавыми скрипучими голосами, всячески понося и осуждая меня. Каждую ночь они устраивали бесовский шабаш. Бесовский потому, что к покойникам присоединялись и бесы. Я с ними так намучился, что уже бросил ходить на работу и сидел в каком-то тупом оцепенении. Один мой знакомый альпинист оставил у меня свое горное снаряжение, среди которого я углядел прочную капроновую веревку. «Вот то, что мне сейчас надо», – подумал я и соорудил себе петлю, которая быстро захлестнет мне глотку и избавит от всех проблем. На кухне оборудовал специальный уголок, привязав веревку к фановой трубе. Покойники и бесы хором хвалили меня и приветствовали мое начинание. Сейчас я узнаю, что же там за гранью жизни, и согласно учению о карме во что-то воплощусь. Но во что? Может в камень, может в крысу, может в лохматую дворнягу. Я встал на табуретку и накинул петлю себе на шею. Стало тихо, только в фановой трубе, тянущейся от двенадцатого этажа, периодически шумели клозетные водопады.
– Неужели это последнее, что довелось мне услышать в жизни? – подумал я и снял с шеи петлю. – Черт бы меня побрал, это всегда успеется! Я посадил своего домашнего кота в сумку и отнес его на квартиру к мадам Кабановой-Синегорской, запер двери своей квартиры и поехал в древний отдаленный православный монастырь. Пока я ехал, все думал, что забрел я не на ту дорожку. Заблудился я, крепко заблудился во мгле этой жизни. В монастыре меня повели к Игумену. Вошли к нему со всеми монастырскими церемониями. На языке у моих сопровождающих только и было слышно, что «простите» да «благословите». Они поклонились Игумену и оставили меня с ним наедине.
– Ну, что рабе Божий, с чем пожаловал к нам? Уж больно ты зело власат и брадат. Не по чину ты носишь эту растительность. Такие власы и брада более к лицу Архимандриту или Епископу.
– Это, отец Игумен, растительность такую больше держу не для и-ми-джа, а для сохранения энергии.
– Вона как! – удивился Игумен. – И что же сохраняется твоя энергия?
– Нет, на днях хотел повеситься.
– Что так, мил человек? Уже и Божий свет тебе в тягость?
И тут я рассказал Игумену, как на духу, всю свою жизнь и под конец стал проситься в монахи.
– Нет, не могу принять тебя в монастырь, мил человек, уж очень ты заматаревши в духовном блуде.
– Примите, отец Игумен, я разматарюсь, а сейчас я овца заблудшая.
– Нет! Не могу, – ответил Игумен.
– Если не возьмете, тогда я лягу под дверью и не буду есть и пить. Или примите, или я околею здесь.
– Валяй, – сказал Игумен и дал понять, что разговор окончен.
Я вышел во двор и лег на кучу песка. И трое суток лежал я, распластавшись на этой куче. Без питья мне стало плохо, и все померкло перед глазами. И не чувствовал, как монахи подняли меня и перенесли в келью. Когда я очнулся, мне дали воды и посадили на стул. Старый монах большими овечьими ножницами окорнал мне волосы и бороду. Открыли окно, чтобы дать мне поболее воздуха, и тут зазвонили к вечерне. Как услышал я этот колокольный звон, так и залился слезами. Плакал и рыдал я долго. И чем дольше плакал, тем легче становилось у меня на сердце, и перестала давить грудь чугунная тяжесть тоски, и я остался в монастыре.
Вначале был трудником, потом три года ходил в послушниках, и назначено мне было рыбное послушание. И много дней в утлой ладье, колыхаясь на волнах вместе с братией, я провел на озере. Нрав здешней рыбы я понял быстро и без улова не возвращался. Отец Игумен любил поесть свежей рыбки, а также и похлебку со снетками, при этом, глядя на меня, всегда шутил: «Чтобы я делал без тебя, отец Питирим». Теперь я уже пострижен в рясофор и стал законным иноком. Без Христа и Матушки Богородицы ни шагу. Молитесь за меня грешного, люди добрые, и Бог не оставит вас.

Тяжелые времена

Родился я в предместье Чикаго в ненастное утро, когда еще не разошлись ночные сумерки, смешанные с туманами озера Мичиган и вонью гигантских Чикагских скотобоен. Моя мать – рослая рыжая женщина – была не из породы неженок, а после родов с оханьем сразу встала, перетянула себе живот полотенцем и принялась помогать дряхлой полуслепой старухе обмывать меня в тазу от крови и кала и пеленать в какие-то тряпки. У моей матери была судьба рабочей лошади. Насколько я ее помню, она была с вечно озабоченным лицом, покрытым веснушками, с припухшими красноватыми веками, а грубыми, рабочими, не знавшими покоя, руками вечно что-то делала. С раннего утра она уходила в механическую прачечную братьев Гольдберг, оставляя мне на старом засаленном диване укутанные тряпками и газетами кастрюльки с едой. А возвращалась она домой только вечером, отстояв на ногах по двенадцать часов у гладильного пресса. Открыв дверь, она бухалась на стул и молча сидела с полчаса, положив руки на колена. Придя в себя, она до ночи возилась по хозяйству. И так каждый день, многие годы.
А вот отца у меня не было, и соседи называли меня подзаборником. Говорили, что к матери одно время похаживал какой-то шведский моряк, после чего я и появился на свет. Конечно, когда-то законный отец у нас был, но он умер от скоротечной чахотки вскоре после того, как наша семья из Белорусского Полоцка эмигрировала в Америку. В свое время ему дьявольски повезло с эмиграционным комитетом, от которого он получил «Шифс-карту» для своей семьи, дающую возможность вырваться из беспросветной нищеты и уехать в благословенную Америку, где при удаче можно было быстро разбогатеть и начать новую жизнь. Но надежды его не оправдались, и он, освободившись от всех проблем, упокоился на Чикагском кладбище для бедных эмигрантов.
Кроме меня у матери было двое законных сыновей – здоровенных грубых парней, жадных и прожорливых, работавших на обвалке коровьих туш на Чикагской скотобойне. Мои братья, приходя с работы, пропахшие жиром и кровью, долго отмывались под душем, крякая и гулко шлепая друг друга ладонями по могучим телесам. Затем, съев по громадной миске тушеного мяса с картошкой, они заваливались на диваны с красочными глянцевитыми журналами и рассматривали фото обнаженных красоток и блистающие никелем и лаком модели автомобилей. Вскоре журналы вываливались у них из рук, и мощный храп разносился по всей квартире. Любимым занятием по вечерам у них было подсчитывание набежавших процентов на их банковском счету. В жизни они страшно скопидомничали, ущемляя себя во всем, прикладывая цент к центу и ежемесячно совершали торжественный ритуал внесения в банк очередной накопленной суммы.
Наконец, давнишняя их мечта сбылась, и они открыли собственное дело, арендовав мясную лавку.
– Нечего тебе, подзаборнику, даром жрать хлеб, – сказал старший Рувим и взял меня в лавку уборщиком.
После школы, наскоро перекусив, я бежал в лавку и как проклятый до вечера скоблил сальный прилавок, мыл горячей водой пол, чистил ножи и топоры. С покупателями, не боясь правосудия, братья жульничали как могли. Были у них и фальшивые гири, и мясо они ловко взвешивали в свою пользу, отвлекая покупателя веселым зубоскальством. А если мясо у них чернело, сохло и начинало пованивать, они мыли его в соленой воде и делали из него фарш, сдабривая его селитрой. Если я не успевал к вечеру отскоблить от сала лавку, братья били меня и страшно орали, переходя с английского на русский мат. Английский язык я знал хорошо, потому что это язык моего детства, да и учился я в американской школе, но кроме этого, я знал и русский язык, на котором дома разговаривали моя мать и братья.
Однажды в субботу, когда мясная лавка обычно была закрыта, вместо посещения синагоги я шатался по городу, рассматривал витрины магазинов и поедал из пакета чипсы. Синагогу я не любил, считая ее нудной, и вообще ни в какого бога не верил, но по иудейскому закону на восьмой день жизни был обрезан. Итак, гуляя по городу, я набрел на русскую православную церковь и зашел туда просто из любопытства, так как все, что относилось к России, меня всегда привлекало и интересовало. Народу в церкви было немного, пел хор, и, вероятно, служба подходила к завершению. Священник вышел с Чашей в руках, и все стали подходить к нему, он что-то черпал ложечкой из Чаши и угощал подходящих. Я тоже возжелал угощения и подошел последним, но священник Чашу унес в алтарь, сказав мне, чтобы я пока не уходил. Когда окончилась служба, мы со священником сели в сторонке, и он с любопытством и доброжелательством некоторое время разглядывал меня. Наш разговор вначале велся по-английски, а потом мы перешли на русский язык. Такого приятного и внимательного собеседника я еще в своей жизни не встречал. Я ему все рассказал о себе, и он удивился, что я еврей.
– А ты больше похож на скандинава, – сказал он.
И я тут сгоряча брякнул, что и соседи говорят, что после смерти отца к моей матери ходил швед, после чего я и появился на свет. Священник улыбнулся и пригласил меня отобедать вместе с ним. Мы спустились в полуподвальное помещение, где была трапезная, и служитель из соседнего ресторанчика принес нам горячий обед.
Впоследствии много-много раз я приходил в эту церковь, и мил мне стал этот человек, в котором я нашел отца и наставника, потому что я рос без родительской ласки и внимания, постоянно дома и в лавке слушая только брань и получая тычки и подзатыльники и видя кругом нищету, алчность и вечную погоню за деньгами.
Мои старшие братья, Рувим и Яков, ожаднели до невозможности. Обманывая покупателей, они стали обманывать друг друга, утаивая выручку. В лавке они работали через день. Когда один торгует в лавке, другой едет на склад или на стареньком «Форде» развозит товар заказчикам. Подозревая друг друга в обмане, они каждый день бранились, изощряясь в крутом мате, и уже часто дело доходило до драки. И когда сцеплялись эти два буйвола, в лавке все ходило ходуном, и я думал, что рано или поздно они искалечат или убьют друг друга. Деньги, деньги – не сходило с их языка, и мне так опротивела эта лавка с изрубленными деревянными колодами, говяжьими и бараньими тушами, висящими на острых крюках, с красными, скалящими зубы и глядящими на тебя мутными мертвыми глазами ободранными головами, выставленными на прилавке, сладковатым запахом парного мяса, что я ходил туда, едва волоча ноги, с отвращением и ненавистью, как на каторгу.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.