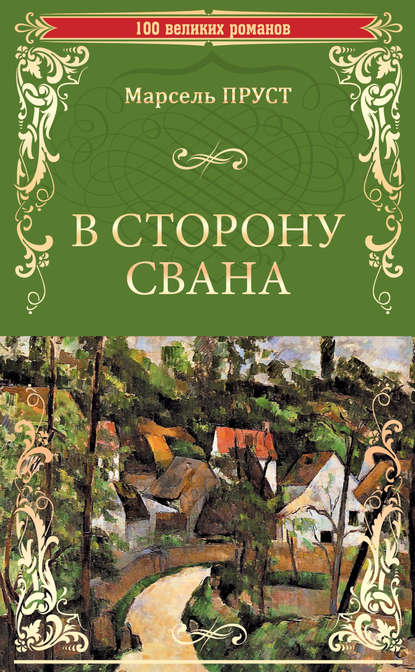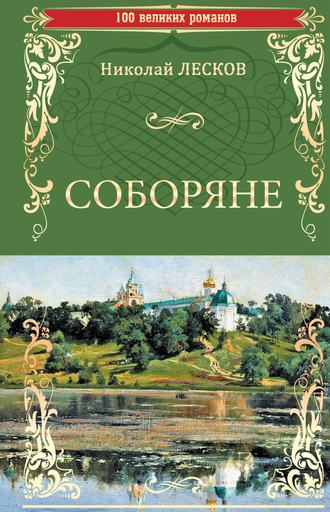
Полная версия
Соборяне

Николай Семенович Лесков
Соборяне
© Клех И.Ю., вступительная статья, 2018
© ООО «Издательство „Вече“», 2018
© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2019
«Самый русский из русских писателей»

Именно так вслед за Львом Толстым охарактеризовал Николая Лескова (1831–1895) критик Святополк-Мирский, аргументируя это так: «Самое поразительное и оригинальное у Лескова – это русский язык. Его современники писали и старались писать ровным и гладким языком, избегая слишком ярких или сомнительных оборотов. Лесков же жадно хватал каждое неожиданное или живописное идиоматическое выражение».
Таким образом, это суждение указывало не столько на редкостное знание Лесковым условий жизни русского народа, сколько на стиль его рассказов и повестей, вошедших по праву в золотой фонд художественной литературы и «русский канон», значимый не только для литературы, но и для культуры и русской цивилизации в целом: «Левша», «Очарованный странник», «Запечатленный ангел», «Леди Макбет Мценского уезда», «Железная воля», «Заячий ремиз» и др.
Ситуация такая же примерно, как с Мопассаном, чьи рассказы несравненно сильнее его романов. Лесков тоже написал полдюжины романов, из которых сегодня серьезный интерес представляют только «Соборяне». Более того, два его ранних антинигилистических романа («Некуда» и «На ножах») фактически сломали ему если не жизнь, то карьеру. Слева его заклевывали до полусмерти либеральные «голуби», а справа терзали пригревшие «стервятники» – реакционеры, пытаясь приспособить для достижения собственных целей. Тогда как он был, по существу, всего лишь честным, умным и безмерно талантливым внуком попа и сыном семинариста, ставшего следователем по уголовным делам. А как раз из поповичей и разночинцев вербовалось литературное пополнение времен отмены крепостного права, и мало кто из них не поддался обольщению вульгарным материализмом и политическим радикализмом. Лесков же был внепартийным одиночкой, оттого и мучился при жизни. Зато и любят посмертно таких литераторов не только у нас – за их неподкупность. А вот партийные (по-русски: частичные) критики и сегодня винят лесковского «Левшу» то в квасном патриотизме, то в клевете на русский народ, а его самого то в ортодоксальности, то в антиклерикализме.
Оттого и получилось, что «Соборяне» сложились в окончательном виде только в «третьем тиснении», по выражению Лескова, когда он с грехом пополам увернулся как от нападок «голубей» (Некрасов: «Да разве мы не ценим Лескова? Мы ему только ходу не даем»), так и от объятий «ястребов» (Катков: «Мы ошибаемся: этот человек не наш!»). Поначалу им затевалась «романическая хроника» о житье-бытье соборных священнослужителей в неком уездном Старгороде «Чающие движения воды» (Евангелие от Иоанна, гл. 5, ст. 2–4): вот слетит ангел с небес к святому источнику, возмутит воду, и очнется Русь – исцелится от раскола и смуты и восстанет к новой праведной жизни! Знакомые многим и сегодня ожидания. Не сразу из этой хроники пророс и выстроился роман. В нем нет еще лесковской «сказовой» манеры повествования, но уже заметно мастерство речевой характеристики персонажей, и комизм, гротеск, и смачный анекдот проклевываются уже и набирают силу. Задним числом этот роман выглядит несколько эклектичным – для современного читателя просвечивают за ним поздний Гоголь и ранний Достоевский, зрелый Щедрин и утопичный Платонов. Тем не менее это увлекательнейшее чтение: как бы история в лицах и положениях размывания прежней Руси в предреформенной России (особенно в дневниковой «Демикотоновой книге протопопа Туберозова»). В идейном отношении картина еще интереснее, поскольку этот с виду бытописательный и нравоучительный роман на самом деле роман идеологический (как у Достоевского после каторги), главные герои которого – протопоп Савелий Туберозов и дьякон Ахилла Десницын – приобретают былинный масштаб. Да и целый ряд второстепенных персонажей, позитивных и негативных, чудо как хорош. Что заставляет нас пошевелить мозговыми извилинами, чтобы те не выпрямились и закоснели согласно тем или иным партийным предписаниям.
Знаменитая фраза Ахматовой, что «христианство еще на Руси не проповедано», если кто не знает еще, – это цитата из «Соборян». В конце жизни Лесков тесно сошелся с Толстым и толстовцами и даже стал идейным вегетарианцем, хоть его не могла не смущать гордыня толстовского учения (есть у него статья с характерным названием «Граф Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как ересиархи» в защиту обоих писателей от нападок; Лесков был еще и изрядным публицистом). Хотя бы потому, что, по поговорке «нет перед Богом праведника», ему дорога была совестливая, смиренная и сострадательная сторона русской души: «О моя мягкосердечная Русь, как ты прекрасна!» – другая цитата из «Соборян», за которую недолюбливавший Лескова Достоевский признал в нем родственную душу.
Лесков был на редкость широко мыслящим человеком и мятущимся христианином. Уже через несколько лет он признавался, что «не написал бы „Соборян“ так, как они написаны», ибо «сделался „перевертнем“ и не жгу фимиама многим старым богам». Вот и хорошо, что успел написать их так, как написал.
Игорь Клех
Часть первая
Глава первая
Люди, житье-бытье которых составит предмет этого рассказа, суть жители старгородской соборной поповки.
Это – протоиерей Савелий Туберозов, священник Захария Бенефактов и дьякон Ахилла Десницын. Годы ранней молодости этих людей, так же как и пора их детства, нас не касаются. А чтобы видеть перед собою эти лица в той поре, в которой читателю приходится представлять их своему воображению, он должен рисовать себе главу старогородского духовенства, протоиерея Савелия Тубе- розова, мужем уже пережившим за шестой десяток жизни. Отец Туберозов высок ростом и тучен, но еще очень бодр и подвижен. В таком же состоянии и душевные его силы: при первом на него взгляде видно, что он сохранил весь пыл сердца и всю энергию молодости. Голова его отлично красива: ее даже позволительно считать образцом мужественной красоты. Волосы Туберозова густы, как грива матерого льва, и белы, как кудри Фидиева Зевса. Они художественно поднимаются могучим чубом над его высоким лбом и тремя крупными волнами падают назад, не достигая плеч. В длинной раздвоенной бороде отца протопопа и в его небольших усах, соединяющихся с бородой у углов рта, мелькает еще несколько черных волос, придающих ей вид серебра, отделанного чернью. Брови же отца протопопа совсем черны и круто заломанными латинскими S-ами сдвигаются у основания его довольно большого и довольно толстого носа. Глаза у него коричневые, большие, смелые и ясные. Они всю жизнь свою не теряли способности освещаться присутствием разума; в них же близкие люди видали и блеск радостного восторга, и туманы скорби, и слезы умиления; в них же сверкал порою и огонь негодования, и они бросали искры гнева – гнева не суетного, не сварливого, не мелкого, а гнева большого человека. В эти глаза глядела прямая и честная душа протопопа Савелия, которую он, в своем христианском уповании, верил быти бессмертною.
Захария Бенефактов, второй иерей Старгородского собора, совсем в другом роде. Вся его личность есть воплощенная кротость и смирение. Соответственно тому, сколь мало желает заявлять себя кроткий дух его, столь же мало занимает места и его крошечное тело и как бы старается не отяготить собою землю. Он мал, худ, тщедушен и лыс. Две маленькие букольки серожелтеньких волосинок у него развеваются только над ушами. Косы у него нет никакой. Последние остатки ее исчезли уже давно, да и то была коса столь мизерная, что дьякон Ахилла иначе ее не называл, как мышиный хвостик. Вместо бороды у отца Захарии точно приклеен кусочек губочки. Ручки у него детские, и он их постоянно скрывает и прячет в кармашки своего подрясника. Ножки у него слабые, тоненькие, что называется соломенные, и сам он весь точно сплетен из соломки. Добрейшие серенькие глазки его смотрят быстро, но поднимаются вверх очень редко и сейчас же ищут места, куда бы им спрятаться от нескромного взора. По летам отец Захария немножко старше отца Туберозова и значительно немощнее его, но и он, так же как и протопоп, привык держаться бодро и при всех посещающих его недугах и немощах сохранил и живую душу и телесную подвижность.
Третий и последний представитель старогородского соборного духовенства, дьякон Ахилла, имел несколько определений, которые будет нелишним здесь привести все, дабы при помощи их могучий Ахилла сколько-нибудь удобнее нарисовался читателю.
Инспектор духовного училища, исключивший Ахиллу Десницына из синтаксического класса за «великовозрастие и малоуспешие», говорил ему:
– Эка ты дубина какая, протяженно сложенная!
Ректор, по особым ходатайствам вновь принявший Ахиллу в класс риторики, удивлялся, глядя на этого слагавшегося богатыря, и, изумляясь его величине, силе и бестолковости, говорил:
– Недостаточно, думаю, будет тебя и дубиной называть, поелику в моих глазах ты по малости целый воз дров.
Регент же архиерейского хора, в который Ахилла Десницын попал по извлечении его из риторики и зачислении на причетническую должность, звал его «непомерным».
– Бас у тебя, – говорил регент, – хороший, точно пушка стреляет; но непомерен ты до страсти, так что чрез эту непомерность я даже не знаю, как с тобой по достоинству обходиться.
Четвертое же и самое веское из характерных определений дьякону Ахилле было сделано самим архиереем, и притом в весьма памятный для Ахиллы день, именно в день изгнания его, Ахиллы, из архиерейского хора и посылки на дьяконство в Старый Город. По этому определению дьякон Ахилла назывался «уязвленным». Здесь будет уместно рассказать, по какому случаю стало ему приличествовать сие последнее название «уязвленного».
Дьякон Ахилла от самых лет юности своей был человек весьма веселый, смешливый и притом безмерно увлекающийся. И мало того, что он не знал меры своим увлечениям в юности: мы увидим, знал ли он им меру и к годам своей приближающейся старости.
Несмотря на всю «непомерность» баса Ахиллы, им все-таки очень дорожили в архиерейском хоре, где он хватал и самого залетного верха и забирал под самую низкую октаву. Одно, чем страшен был регенту непомерный Ахилла, это – «увлекательностью». Так он, например, во всенощной никак не мог удержаться, чтобы только трижды пропеть «Свят Господь Бог наш», а нередко вырывался в увлечении и пел это один-одинешенек четырежды, и особенно никогда не мог вовремя окончить пения многолетий. Но во всех этих случаях, которые уже были известны и которые потому можно было предвидеть, против «увлекательности» Ахиллы благоразумно принимались меры предосторожности, избавлявшие от всяких напастей и самого дьякона и его вокальное начальство: поручалось кому-нибудь из взрослых певчих дергать Ахиллу за полы или осаживать его в благопогребную минуту вниз за плечи. Но недаром сложена пословица, что на всякий час не обережешься. Как ни тщательно и любовно берегли Ахиллу от его увлечений, все-таки его не могли совсем уберечь от них, и он самым разительным образом оправдал на себе то теоретическое положение, что «тому нет спасения, кто в самом себе носит врага». В один большой из двунадесятых праздников Ахилла, исполняя причастный концерт, должен был делать весьма хитрое басовое соло на словах: «и скорбьми уязвлен». Значение, которое этому соло придавал регент и весь хор, внушало Ахилле много забот: он был неспокоен и тщательно обдумывал, как бы ему не ударить себя лицом в грязь и отличиться перед любившим пение преосвященным и перед всею губернскою аристократией, которая соберется в церковь. И зато справедливость требует сказать, что Ахилла изучил это соло великолепно. Дни и ночи он расхаживал то по своей комнате, то по коридору или по двору, то по архиерейскому саду или по загородному выгону, и все распевал на разные тоны: «уязвлен, уязвлен, уязвлен», и в таких беспрестанных упражнениях дождался наконец, что настал и самый день его славы, когда он должен был пропеть свое «уязвлен» пред всем собором. Начался концерт. Боже, как велик и светло сияющ стоит с нотами в руках огромных Ахилла! Его надо было срисовать – пером нельзя его описывать… Вот уже прошли знакомые форшлаги, и подходит место басового соло. Ахилла отодвигает локтем соседа, выбивает себе в молчании такт своего соло «уязвлен» и, дождавшись своего темпа, видит поднимающуюся с камертоном регентскую руку… Ахилла позабыл весь мир и себя самого и удивительнейшим образом, как труба архангельская, то быстро, то протяжно возглашает: «И скорбьми уязвлен, уязвлен, у-й-я-з-в-л-е-н, у-й-я-з-в-л-е-н, уязвлен». Силой останавливают Ахиллу от непредусмотренных излишних повторений, и концерт кончен. Но не кончен он был в «увлекательной» голове Ахиллы, и среди тихих приветствий, приносимых владыке подходящею к его благословению аристократией, словно трубный глас с неба с клироса снова упал вдруг: «Уязвлен, уй-яз-влен, уй-я-з-в-л-е-н». Это поет ничего не понимающий в своем увлечении Ахилла; его дергают – он поет; его осаживают вниз, стараясь скрыть за спинами товарищей, – он поет: «уязвлен»; его, наконец, выводят вон из церкви, но он все- таки поет: «у-я-з-в-л-е-н».
– Что тебе такое? – спрашивают его с участием сердобольные люди.
– «Уязвлен», – воспевает, глядя всем им в глаза, Ахилла и так и остается у дверей притвора, пока струя свежего воздуха не отрезвила его экзальтацию.
В сравнении с протоиереем Туберозовым и отцом Бенефактовым Ахилла Десницын может назваться человеком молодым, но и ему уже далеко за сорок, и по смоляным черным кудрям его пробежала сильная проседь. Роста Ахилла огромного, силы страшной, в манерах угловат и резок, но при всем этом весьма приятен; тип лица имеет южный и говорит, что происходит из мало- российских казаков, от коих он и в самом деле как будто унаследовал беспечность и храбрость и многие другие казачьи добродетели.
Глава вторая
Жили все эти герои старомодного покроя на старго- родской поповке, над тихою судоходною рекой Турицей. У каждого из них, как и у Захарии и даже у дьякона Ахиллы, были свои домики на самом берегу, как раз насупротив высившегося за рекой старинного пятиглавого собора с высокими куполами. Но как разнохарактерны были сами эти обыватели, так различны были и их жилища. У отца Савелия домик был очень красивый, выкрашенный светло-голубою масляною краской, с разноцветными звездочками, квадратиками и репейками, прибитыми над каждым из трех его окон. Окна эти обрамливались еще резными, ярко же раскрашенными наличниками и зелеными ставнями, которые никогда не закрывались, потому что зимой крепкий домик не боялся холода, а отец протопоп любил свет, любил звезду, заглядывавшую ночью с неба в его комнату, любил лунный луч, полосой глазета ложившийся на его разделанный под паркет пол.
В домике у отца протопопа всякая чистота и всякий порядок, потому что ни сорить, ни пачкать, ни нарушать порядок у него некому. Он бездетен, и это составляет одну из непреходящих скорбей его и его протопопицы.
У отца Захарии Бенефактова домик гораздо больше, чем у отца Туберозова; но в бенефактовском домике нет того щегольства и кокетства, которым блещет жилище протоиерея. Пятиоконный, немного покосившийся серый дом отца Захарии похож скорее на большой птичник, и к довершению сходства его с этим заведением во все маленькие переплеты его зеленых окон постоянно толкутся различные носы и хохлики, друг друга опирающие и друг друга преследующие. Это все потомство отца Захарии, которого Бог благословил яко Иакова, а жену его умножил яко Рахиль. У отца Захарии далеко не было ни зеркальной чистоты протопопского дома, ни его строгого порядка: на всем здесь лежали следы детских запачканных лапок; из всякого угла торчала детская головенка; и все это шевелилось детьми, все здесь и пищало и пело о детях, начиная с запечных сверчков и оканчивая матерью, убаюкивавшею свое потомство песенкой:
Дети мои, дети!
Куда мне вас дети?
Где вас положити?
Дьякон Ахилла был вдов и бездетен и не радел ни о стяжаниях, ни о домостройстве. У него на самом краю Заречья была мазаная малороссийская хата, но при этой хате не было ни служб, ни заборов, словом, ничего, кроме небольшой жердяной карды, в которой по колено в соломе бродили то пегий жеребец, то буланый мерин, то вороная кобылица. Убранство в доме Ахиллы тоже было чисто казацкое: в лучшей половине этого помещения, назначавшейся для самого хозяина, стоял деревянный диван с решетчатою спинкой; этот диванчик заменял Ахилле и кровать, и потому он был застлан белою казацкою кошмой, а в изголовье лежал чеканенный азиатский седельный орчак, к которому была прислонена маленькая блинообразная подушка в просаленной китайчатой наволочке. Пред этим казачьим ложем стоял белый липовый стол, а на стене висели бесструнная гитара, пеньковый укрючный аркан, нагайка и две вязанные пукольками уздечки. В уголку на небольшой полочке стоял крошечный образок успения Богородицы с водруженною за ним засохшею вербочкой и маленький киевский молитвосло- вик. Более решительно ничего не было в жилище дьякона Ахиллы. Рядом же, в небольшой приспешной, жила у него отставная старая горничная помещичьего дома, Надежда Степановна, называемая Эсперансою.
Это была особа старенькая, маленькая, желтенькая, вострорылая, сморщенная, с характером самым неуживчивым и до того несносным, что, несмотря на свои золотые руки, она не находила себе места нигде и попала в слуги бездомовного Ахиллы, которому она могла сколько ей угодно трещать и чекотать, ибо он не замечал ни этого треска, ни чекота и самое крайнее раздражение своей старой служанки в решительные минуты прекращал только громовым: «Эсперанса, провались!» После таких слов Эсперанса обыкновенно исчезала, ибо знала, что иначе Ахилла схватит ее на руки, посадит на крышу своей хаты и оставит там, не снимая, от зари до зари. Ввиду этого страшного наказания Эсперанса боялась противоречить своему казаку-господину.
Все эти люди жили такою жизнью и в то же время все более или менее несли тяготы друг друга и друг другу восполняли не богатую разнообразием жизнь. Отец Савелий главенствовал над всем положением; его маленькая протопопица чтила его и не слыхала в нем души. Отец Захария также был счастлив в своем птичнике. Не жаловался ни на что и дьякон Ахилла, проводивший все дни свои в беседах и в гулянье по городу, или в выезде и в мене своих коней, или, наконец, порой в дразнении и в укрощении своей «услужающей Эсперансы».
Савелий, Захария и Ахилла были друзья, но было бы, конечно, большою несправедливостью полагать, что они не делали усилий разнообразить жизнь сценами легкой вражды и недоразумений, благодетельно будящими человеческие натуры, усыпляемые бездействием уездной жизни. Нет, бывало нечто такое и здесь, и ожидающие нас страницы туберозовского дневника откроют нам многие мелочи, которые вовсе не казались мелочами для тех, кто их чувствовал, кто с ними боролся и переносил их. Бывали и у них недоразумения. Так, например, однажды помещик и местный предводитель дворянства, Алексей Никитич Плодомасов, возвратясь из Петербурга, привез оттуда лицам любимого им соборного духовенства разные более или менее ценные подарки и между прочим три трости: две с совершенно одинаковыми набалдашниками из червонного золота для священников, то есть одну для отца Туберозова, другую для отца Захарии, а третью с красивым набалдашником из серебра с чернью для дьякона Ахиллы. Трости эти пали между старгородским духовенством как библейские змеи, которых кинули пред фараона египетские кудесники.
– Сим подарением тростей на нас наведено сомнение, – рассказывал дьякон Ахилла.
– Да в чем же вы тут, отец дьякон, видите сомнение? – спрашивали его те, кому он жаловался.
– Ах, да ведь вот вы, светские, ничего в этом не понимаете, так и не утверждайте, что нет сомнения, – отвечал дьякон, – нет-с! тут большое сомнение!
И дьякон пускался разъяснять это специальное горе.
– Во-первых, – говорил он, – мне, как дьякону, по сану моему такого посоха носить не дозволено и неприлично, потому что я не пастырь, – это раз. Повторительно, я его теперь, этот посох, ношу, потому что он мне подарен, – это два. А в-третьих, во всем этом сомнительная одностойностъ: что отцу Савелию, что Захарии одно и то же, одинаковые посошки. Зачем же так сравнять их?… Ах, помилуйте же вы, зачем?… Отец Савелий… вы сами знаете… отец Савелий… он умница, философ, министр юстиции, а теперь, я вижу, что он ничего не может сообразить и смущен, и даже страшно смущен.
– Да чем же он тут может быть смущен, отец дьякон?
– А тем смущен, что, во-первых, от этой совершенной одностойности происходит смешанность. Как вы это располагаете, как отличить, чья эта трость? Извольте теперь их разбирать, которая отца протопопа, которая Захариина, когда они обе одинаковы? Но, положим, на этот бы счет для разборки можно какую-нибудь заметочку положить – или сургучом под головкой прикапнуть, или сделать ножом на дереве нарезочку; но что же вы поделаете с ними в рассуждении политики? Как теперь у одной из них прошв другой цену или достоинство ее отнять, когда они обе одностойны? Помилуйте вы меня, ведь это невозможно, чтоб и отец протопоп и отец Захария были одностойны. Это же не порядок-с! И отец протопоп это чувствует, и я это вижу-с и говорю: «Отец протопоп, больше ничего в этом случае нельзя сделать, как позвольте, я на отца Захариину трость сургучную метку положу или нарезку сделаю». А он говорит: «Не надо! Не смей, и не надо!» Как же не надо? «Ну, говорю, благословите: я потаенно от самого отца Захарии его трость супротив вашей ножом слегка на вершок урежу, так что отец Захария этого сокращения и знать не будет», но он опять: «Глуп, говорит, ты!..» Ну, глуп и глуп, не впервой мне это от него слышать, я от него этим не обижаюсь, потому он заслуживает, чтоб от него снесть, а я все-таки вижу, что он всем этим недоволен, и мне от этого пребеспокойно… И вот скажите же вы, что я трижды глуп, – восклицал дьякон, – да-с, позволяю вам, скажите, что я глуп, если он, отец Савелий, не сполитикует. Это уж я наверно знаю, что мне он на то не позволяет, а сам сполитикует.
И дьякон Ахилла, по-видимому, не ошибся. Не прошло и месяца со времени вручения старгородскому соборному духовенству упомянутых наводящих сомнение посохов, как отец протопоп Савелий вдруг стал собираться в губернский город. Не было надобности придавать какое-нибудь особенное значение этой поездке отца Туберозова, потому что протоиерей, в качестве благочинного, частенько езжал в консисторию. Никто и не толковал о том, зачем протопоп едет. Но вот отец Туберозов, уже усевшись в кибитку, вдруг обратился к провожавшему его отцу Захарии и сказал:
– А послушай-ка, отче, где твоя трость? Дай-ка ты мне ее, я ее свезу в город.
Одно это обращение с этим словом, сказанным как будто невзначай, вдруг как бы озарило умы всех провожавших со двора отъезжавшего отца Савелия.
Дьякон Ахилла первый сейчас же крякнул и шепнул на ухо отцу Бенефактову:
– А что-с! Я вам говорил: вот и политика!
– Для чего ж мою трость везти в город, отец протопоп? – вопросил смиренно моргающий своими глазами отец Захария, отстраняя дьякона.
– Для чего? А вот я там, может быть, покажу, как нас с тобой люди уважают и помнят, – отвечал Туберозов.
– Алеша, беги, принеси посошок, – послал домой сынишку отец Захария.
– Так вы, может быть, отец протопоп, и мою трость тоже свозите показать? – вопросил, сколь умел мягче, Ахилла.
– Нет, ты свою пред собою содержи, – отвечал Савелий.
– Что ж, отец протопоп, «пред собою»? И я же ведь точно так же… тоже ведь и я предводительского внимания удостоился, – отвечал, слегка обижаясь, дьякон; но отец протопоп не почтил его претензии никаким ответом и, положив рядом с собою поданную ему в это время трость отца Захарии, поехал.
Туберозов ехал, ехали с ним и обе наделавшие смущения трости, а дьякон Ахилла, оставаясь дома, томился разрешением себе загадки: зачем протопоп отобрал трость у Захарии?
– Ну что тебе? Что тебе до этого? что тебе? – останавливал Захария мятущегося любопытством дьякона.
– Отец Захария, я вам говорю, что он сполитикует.
– Ну а если и сполитикует, а тебе что до этого? Ну и пусть его сполитикует.
– Да я нестерпимо любопытен предвидеть, в чем сие будет заключаться. Урезать он мне вашу трость не хотел позволить, сказал: глупость; метки я ему советовал положить, он тоже и это отвергнул. Одно, что я предвижу…
– Ну, ну… ну что ты, болтун, предвидеть можешь?
– Одно, что… он непременно драгоценный камень вставит.
– Да! ну… ну куда же, куда он драгоценный камень вставит?
– В рукоять.
– Да в свою или в мою?
– В свою, разумеется, в свою. Драгоценный камень, ведь это драгоценность.