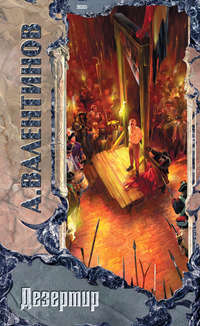Полная версия
Аргентина. Лейхтвейс
Кто эти люди, Лейхтвейсу не сказали, а спрашивать он не стал. Ясное дело, не «черная кость», если живут в районе Пасси, да еще и в собственном особняке. Немного смущало другое – исполнить следовало всех, кто будет у машины. Это значит сами объекты, шофер, и, возможно, охранник. Будка у ворот пустовала, но он вполне может появиться. Сколько всего? Минимум четверо, причем двое наверняка будут при оружии…
В глубине гаража что-то негромко рыкнуло, и во двор неспешно выкатил автомобиль. Так и есть, «Avant Combi». Черная машина, вновь зарычав, аккуратно развернулась носом к воротам. Интересно, кто их откроет? Охранник или шофер?
Текли минуты, во дворе вновь стало тихо, шофер, отойдя подальше, достал пачку папирос. Значит, еще есть время.
Огонек зажигалки, резкий запах табака…
– Не вздумайте начать курить, – предупредил Лейхтвейса куратор. – Про здоровье говорить не буду, но в оперативной работе это станет здорово мешать.
И рассказал давнюю историю о группе захвата, устроившей засаду на квартире. Ждали долго, целых два дня, и один из сотрудников попросил разрешения выкурить папиросу. Начальник разрешил, велев выбросить окурок в окно и проветрить комнату. Не помогло. Хозяин квартиры начал стрелять прямо с порога. Он был некурящим и понял все сразу.
В группе курсантов курили все, кроме него самого. Никотин снимал стресс и усталость, но Лейхтвейс все-таки удержался. Но сейчас, в эти минуты он невольно позавидовал шоферу. С папиросой время течет быстрее…
А младший сын, тринадцать лет,Просился на войну.Но я ответил: «Нет, нет, нет!» —Малютку не возьму.Шарманщик и девочка в белом платье к ним во двор больше не приходили, на соседних улицах их тоже не видели. Как появились, так и сгинули. Позже довелось слышать старую песню и с граммофонной пластинки, и в исполнении пьяного трактирного хора, и под шарманку тоже, но совсем другую. Девочка в белом платье исчезла навсегда.
Но он нахмурясь отвечал:«Отец, пойду и я!Пускай я слаб, пускай я мал,Крепка рука моя!»…Докурил! Быстро прошел к урне, бросил окурок, поспешил к машине. Входная дверь сейчас откроется…
Открылась.
Первым вышел парень лет двадцати пяти. Короткая стрижка, пиджак расстегнут – наверняка охранник, на покинутой Родине таких зовут «порученцами». Лейхтвейс прикинул, что если охрану усилили, он может и не справиться. Исполнить-то исполнит, но уйти не дадут. Подумал об этом спокойно, без всяких эмоций. Волноваться будет после, если вернется…
Нет, когда вернется!
Объекты!..
Мужчина и женщина вышли на крыльцо одновременно. Он, уже очень пожилой, в строгом темном костюме, без шляпы, волосы отливают сединой. Она несколькими годами моложе, в шляпке и светлом летнем пальто, в руке – большой букет белых цветов. Лилии… Сойдя со ступеней, повернулась к охраннику, что-то сказала, протянула букет… Лейхтвейс замер. Неужели возьмет, сам себя обезоружив?
Взял!
Теперь можно и дух перевести. Лейхтвейс скользнул ладонью по расстегнутой поясной кобуре, наметив незримую линию у крыльца. Как только они ее переступят…
Дверь! А это еще кто? Никого больше не должно быть!..
Он вытер пот со лба. То, что в доме есть ребенок, ему рассказали. Но и сам Лейхтвейс, и сотрудники, готовившие операцию, были уверены, что в такой поздний час детям положено спать – или листать на сон грядущий книжку с картинками. Хотя бы про Лейхтвейса, благородного разбойника…
Девочка в белом платье, легко сбежав по ступенькам, подошла к женщине. Та наклонилась, поцеловала в щеку. Седой мужчина, уже готовый переступить черту, остановился.
Повернулся… Шагнул назад, к крыльцу…
Да, час настал, тяжелый часДля родины моей.Молитесь, женщины, за нас,За наших сыновей.Любая диспозиция теряет смысл после первого же выстрела – гибнет от столкновения с реальностью. Эту простую истину Лейхтвейс знал. Тщательно разработанный план рухнул в небытие, а он даже не успел достать пистолет. А если они вернутся в дом? Действовать непосредственно с крыши нельзя – слишком близко, у объектов есть оружие, значит, начнется перестрелка…
Вверх!
Перчатка-гироскоп сжалась в кулак, и Лейхтвейс беззвучно взлетел в темное небо. Пульс легкими звонкими молоточками бил в виски, отсчитывая секунды. Две, три, четыре… Стоп! Упругий воздух ударил в лицо, и человек завис над уличными огнями. Для того, чтобы набрать нужную скорость, высоты должно хватить. Теперь – вниз. Сначала посмотреть, мысленно вычерчивая траекторию, провести невидимую оранжевую кривую до самой земли…
Достать пистолет… Снять с предохранителя… Пристроить поудобнее в руке. В левой – правая занята…
Может, девочке еще повезет?
Атака!
Быстрее всего скорость можно набрать в простом падении, отключив ранец, но тогда придется разворачиваться у самой земли, теряя драгоценные секунды. Значит, кулак сжать до боли, правую – вперед – и с горки, словно на невидимых салазках. Прямо как в детской книжке: «Вот моя деревня; вот мой дом родной; вот качусь я в санках по горе крутой…»[5]
Бить придется с левой руки, но это не смущало. Учили и выучили! Атаку в пике он отрабатывал много раз, до полного автоматизма. Стрельбу следует начинать с тридцати метров, вначале – самого опасного, а дальше по мере убывания. Значит, первым будет охранник, последней – девочка в белом платье…
…Если она еще там. Вдруг успеет исчезнуть, как та, другая, из его детства?
Первые две секунды, пока земля мчалась навстречу, еще можно было думать, и Лейхтвейс прикинул кем эта, в белом платье, может быть. Внучка? Племянница? Дальняя родственница? Объекты уезжали на целую ночь, намечался большой праздничный прием в министерстве, и она могла выбежать из дома просто для того, чтобы пожелать спокойной ночи.
«Вот моя деревня; вот мой дом родной…»
Земля уже близко. Теперь он видел двор с другой стороны, от ворот. Черный «Avant Combi», шофер справа, возле открытой передней дверцы, охранник чуть в стороне, по-прежнему с букетом лилий в руке. Объекты… Тоже возле «Ситроена», прямо за шофером, лицом друг к другу. Значит, план придется менять, первым не повезет шоферу. С его стороны и атаковать, исполнить первым, убрав с директрисы стрельбы – и уже без всяких помех работать с объектами.
Охранника – последним, он еще секунду станет думать, прежде чем бросит букет.
«…Вот качусь я в санках по горе крутой…»»
Девочку он увидел не сразу, только за миг до того, когда думать уже стало поздно – на крыльце, возле самой двери. В ярком свете фонаря Лейхтвейс успел заметить, что платье не белое, как почудилось в первый миг, – светло-серое. А еще – маленькая смешная дамская сумочка на правом плече. Сейчас она откроет дверь, войдет внутрь и выживет… Нет, не так. Если дверь закроется перед тем, как будет взят прицел – выживет.
…Светловолосый мальчик сидит на подоконнике и смотрит вниз. Двор-колодец, двери подъездов, шарманка, седой старик в большой черной шляпе…
Встает кровавая заряС дымами в вышине.Первый! Второй! Третья! Охранник!..
Трансваль, Трансваль, страна моя,Ты вся горишь в огне!Дверь! Открыта, но… Закрыта! И ладно.
Черная молния, так и не коснувшись земли, ушла в небо.
Когда желтые огни квартала остались далеко внизу, Лейхтвейс расцепил обтянутый перчаткой кулак, останавливая полет. Сразу же стало тихо, исчез свист ветра в ушах, только снизу еле слышно доносился ровный гул огромного города. Теперь можно перевести дух. Нет, сначала вернуть предохранитель на место, спрятать пистолет и только потом, достав платок, протереть мокрый лоб – и посмотреть прямо в звездное небо…
О том, что случилось на оставленной им земле, Лейхтвейс решил пока не думать. Все сделано правильно, приказ выполнен. О выстреле, который так и не прогремел («Трансваль, Трансваль!..»), рассказать некому. К тому же дверь была закрыта… Почти закрыта.
Лейхтвейс всегда исполнял приказы. Почти всегда.
6В феврале 1919 года берсальер Дикобраз наконец-то смог снять военную форму. С капралом Кувалдой расстались по-дружески: обнялись, обменялись адресами, распив на дорожку купленную за последние деньги бутылку прескверной граппы. Бывший студент отправился домой, в Рим, надеясь восстановиться в университете Ла Сапиенца. Это удалось, но поскольку семестр был уже на изломе, демобилизованный Алессандро Скалетта (родовое «Руффо» он старался лишний раз не поминать) решил начать занятия с осени, а пока что освежить в памяти подзабытую научную премудрость – и как следует отдохнуть. Куда уехал Кувалда, знал лишь он сам, но в середине марта, только решив дела в канцелярии Ла Сапиенца, Дикобраз получил письмо, написанное знакомым почерком. Фронтовой товарищ звал его в Милан, где намечалось нечто очень-очень важное. Алессандро весьма удивился, но, подумав, решил съездить. С родителями и немногочисленными приятелями он уже успел пообщаться, а наука могла немного подождать.
«Очень и очень важное» состоялось 23 марта в зале на Пьяцца Сан Сеполькро. Полсотни молодых людей, половина – только что снявшие военную форму ветераны, остальные же – пестрый богемный сброд, которым заправляли бесшабашные футуристы, именовавшие себя странным словом «фашио». Бывший берсальер никак не мог понять, куда он собственно попал, пока не узрел на трибуне Кувалду собственной тяжелой персоной, в штатском и без бороды.
– У меня нет никакой программы! – прогремел Бенито Муссолини, вздергивая массивный подбородок. – Мы создадим ее вместе и спасем нашу Италию. Мы – фашисты!
– Фашио! Фашио! – недружно откликнулся зал. – Да здравствует Италия!..
И уже иначе, дружным хором десятков глоток:
– Дуче! Дуче! Дуче!..
С той поры каждое 23 марта на домашний адрес князя приходило послание из канцелярии главы итальянского правительства. Он оказался в группе избранных – «сансеполькристов» – тех, кто присутствовал при рождении фашистской партии. То, что в партию он так и не вступил, чиновников не волновало. Конверты Дикобраз не вскрывал, но и не выбрасывал – отправлял сразу на чердак. Мыши сами разберутся.
«Сансеполькристов», как он узнал, ныне насчитывалось четыре сотни – включение в заветный список считалось высшей из фашистских наград. Возможно, среди них есть и бывший боксер, чемпион Италии в полусреднем весе Антонио Строцци, один из руководителей личной разведки Дуче. Сам же бывший капрал именовал свою спецслужбу незамысловато: «чека».
– Зачем доказывать вину, синьор Руффо? А главное – кому? Преступнику?
Чемпион поставил на стол тяжелый металлический термос, отвинтил крышку.
– Кофе будете? Ночью пришлось побегать, спал хорошо если час.
Князь пожал плечами.
– Давайте. Только я пью без сахара.
– Я тоже. Хорошо хоть в этом совпадаем.
Чашки нашлись в ящике стола. Полковник, наполнив их до половины, выпил свою в три глотка и откинулся на спинку стула.
– Презумпция невиновности в наше время уже не работает, синьор Руффо. Организованная преступность и зарубежная агентура – как с такими прикажете работать? Я начинал на Сицилии в команде префекта Чезаре Мори. Вы хоть представляете, что творилось на родине ваших предков? Ничего, справились. Да, законы мы устанавливали сами – или вообще без них обходились, но иначе с мафией пришлось бы бороться сто лет.
Князь тоже отпил из чашки и поморщился. Кофе горчил.
– Вы не победили мафию, полковник. Если помните, Чезаре Море сказал, что бандитов надо искать не только среди зарослей опунции, но и в префектурах, полиции, особняках работодателей, и, само собой, в министерствах. Он уточнил «некоторых», но это по скромности. Однако туда вас не очень пускали, да вы и не рвались. Нельзя искоренить преступность ее же методами. Хотя бы потому, что у бандитов куда больше опыта в войне без правил.
Чашка с негромким стуком ударила о столешницу. Чемпион покачал головой.
– Вы неисправимы, синьор Руффо.
– Неисправим, – охотно согласился князь. – Лучше плохой закон, чем борьба всех против всех. Своих взглядов никогда не скрывал, и могу лишь удивиться, отчего обо мне вспомнили так поздно.
Строцци внезапно улыбнулся.
– Очень убедительно! Иной бы даже поверил… Фашизм не карает за инакомыслие. Дуче много раз повторял, что свобода воли для всех, даже для врагов – наша высшая ценность. Но мысли это одно, поступки – совсем другое. Не так ли?
На стол легла небольшая записная книжка в темной обложке.
– Если хотите, синьор Руффо, можем пройтись по всей вашей биографии. Но это долго, хотя и весьма поучительно. Возьмем лишь один эпизод.
Перелистнув несколько страниц, нашел нужную, щелкнул пальцем по бумаге.
– Итак, вы, синьор Руффо, покинули Италию в августе 1926 года и отправились в Северо-Американские Штаты. Жили в Лос-Анджелесе, имели какие-то дела в Голливуде. Писали сценарии, как я понимаю?
Князь пожал плечами.
– Я и не скрываю. Подрабатывал. И сейчас иногда пишу.
Строцци усмехнулся, весело и зубасто.
– Пишете, знаю. Только вот что именно? В Штатах вы не жили. Приехали, побыли пару месяцев, а потом исчезли на несколько лет. Ваши письма домой пересылал кто-то другой – действительно из Лос-Анджелеса. Неплохо придумано, могло бы и сработать.
Улыбка исчезла, холодом плеснул взгляд.
– Именно в эти годы я служил помощником нашего консула в Сан-Франциско. В Голливуд съездил лично, проверил адрес, который указан в письмах… Где же вы были, синьор Руффо?
Дикобраз еле заметно дернул губами.
– Это уже мое дело. Но где бы я ни был, полковник, законы не нарушал, даже те, что установил ваш Дуче – и не делал ничего, что могло бы принести вред Италии. Потому и говорю: докажите!
Полковник вновь открыл записную книжку, зашелестел страницами.
– Если вы так настаиваете… После возвращения из вашего очень странного путешествия, вы покидали Италию дважды. Один раз ездили во Францию, второй – в Португалию, год назад. Там пробыли два месяца. Я ничего не напутал?
Князь согласно кивнул.
– Все так и было.
– Не совсем так, синьор Руффо. В Лиссабоне вы сели на самолет авиакомпании «Иберия» и направились в Мадрид. У вас имелся паспорт совсем на другое имя, но доказать ваше пребывание у анархистов мы сможем без особого труда – как и то, что вы среди прочего встречались с их главарями.
– С министрами законного правительства Испанской республики, – негромко уточнил бывший берсальер.
– С врагами Италии, синьор Руффо. И это всего один эпизод. Ваша биография, как я уже говорил, весьма поучительна.
Строцци отложил записную книжку в сторону, ударил пальцами по столешнице.
– А теперь я сделаю вам предложение, от которого вы не сможете отказаться.
* * *
– Вы давний и убежденный противник фашизма, синьор Руффо, что не тайна. Рискну предположить, что вы – самый первый антифашист в мире. Вы же были в зале Сан Сеполькро, когда Дуче обратился к нации, не так ли? Но меня интересуют не ваши взгляды, а дела. Я убежден, что вы, синьор Руффо, связаны с некой иностранной державой, причем уже немало лет. Более того, вы на них активно работаете. Доказать пока не могу, это действительно так, поэтому не имею возможности вывести вас на открытый процесс. Значит, у вас есть шанс. Предлагаю сотрудничество – во имя нашей Италии, которую вы не раз поминали. Если согласитесь, в вашей жизни внешне ничего не изменится. Если же нет, мы поступим с вами, как с сицилийским мафиози. По всей строгости закона – или беззакония, что никак не изменит результат. И закончите вы жизнь не героем, а мерзким предателем, таким и войдете в историю. Уж об этом я позабочусь. Вот вам и вся защита чести рода ди Скалетта – словом, делом и кровью. Надеюсь, понятно объяснил? Если так, то желаю услышать ответ, причем немедленно. Итак?
– Нет.
7Когда залитая ночной тьмой земля исчезла далеко внизу, Лейхтвейс включил обогрев – третья кнопка слева на маленьком поясном пульте. Об этом предупредили еще перед первым полетом: холод коварен, его можно сразу не заметить, а потом станет поздно. Именно по этой причине погиб сын авиаконструктора. Поднялся в заоблачную высь – и забыл об осторожности. Ясный день, солнце, что может случиться?
Теперь была ночь, и холод подступил со всех сторон. Дышалось плохо, кажется, он тоже увлекся, набрав слишком большую высоту. Нельзя! С ранцем ничего не сделается, не выдержит сердце. Оно создано для тех, кому предначертано ходить, а не летать.
– Привыкайте, ребята, – сказал как-то инструктор. – Вы теперь не просто люди. Только не спешите этому радоваться.
Сказал… Сказала…
Еще раз сверившись с компасом, он решил немного изменить курс. От Парижа до границы Рейха чуть меньше трехсот километров – по прямой, если приложить линейку к карте. Но он возьмет чуть южнее, пусть даже из-за этого придется лишнее время побыть в воздухе. Ничего, выдержит! Полет не должен длиться больше двух часов, но это обычный, тренировочный. Инструктор считал, что можно продержаться втрое больше, если не форсировать скорость и лететь не выше двух километров.
Считал… Считала… Даже в мыслях Лейхтвейс предпочитал неопределенное «инструктор», слово, если верить словарю, мужского рода. Пусть лучше так, меньше риска проговориться. Тем более, этого человека больше нет. Не потому что умер, а вообще. Нет – и не было, учил же их некто, которого лишний раз поминать не след, даже среди «марсиан». Это оказалось не слишком трудно. Привык! В детском доме нельзя было вспоминать об отце – враге трудового народа, в Германии – о России, а в полку, где он, горный стрелок Николас Таубе, проходит службу, – о Лейхтвейсе. И конечно же нигде нельзя поминать Ночного Орла. Такового не существует в природе, крылатые хищники ведут дневной образ жизни, о чем и в книжках написано.
Но там, где нет свободы слова, есть свобода мысли. А если и ее отняли, остается еще Память, и это уже навсегда. Альбом семейных фотографий, отцовская шинель в прихожей, улица 25 Октября в красных первомайских транспарантах, колодец двора, седой шарманщик, девочка в белом платье, а над ними – бездонное синее небо…
Дышать стало заметно легче, внизу сквозь черную мглу проступили еле заметные желтые огоньки. Считай, километр, оптимальная высота при нормальной погоде. Лейхтвейс еще раз сверился с компасом и чуть сжал ладонь в перчатке, прибавив скорости. Теперь все правильно, следующая остановка – Арденны.
Когда планировали операцию, самым сложным оказалось не добраться, а выбраться. Существовал строгий приказ, отданный с самого верха – посадка с ранцем за плечами за пределами территории Рейха возможна только при чрезвычайных обстоятельствах. Но в самолет на полном ходу не запрыгнуть, слишком велика разница в скоростях. Имелся вариант с посадкой где-нибудь на лесной поляне неподалеку от Парижа, однако чужую машину на земле могут увидеть – и найти нужное место ночью очень сложно. Можно воспользоваться дирижаблем, но тот слишком заметен в небе.
Лейхтвейс предложил самое простое – обычный перелет с промежуточной посадкой уже в Германии. На это уйдет еще один день, зато надежно и безопасно. Начальство хоть и не сразу, но согласилось. У Лейхтвейса имелся свой интерес: обратный маршрут строго не оговаривался, значит, у него есть несколько лишних часов – очень много, если распорядиться ими с толком. Приказы положено выполнять, но в любом из них, даже самом строгом, достаточно прорех. Нашел нужную, скользнул в нее – и никто тебе не указ.
«Вы теперь не просто люди». Лейхтвейс давно уже понял – это не только слова. В небе появляется лишнее измерение, земля начинает казаться далекой и плоской, и даже самое высокое начальство выглядит не лучше мелких букашек. Черный ранец превращал обычного парня девятнадцати лет в обитателя двух разных, непохожих миров. Законы земного, нижнего, столь несовершенного, уже не имели над ним прежней власти.
…Теплое звездное небо совсем близко, воздух чист и прохладен, полет почти не ощутим, словно не ты летишь – мир движется сквозь тебя. А до покинутой земли очень, очень далеко…
Свобода!
Лейхтвейс был счастлив.
8Камера пропахла хлоркой. Князь дернул носом, поморщился и, даже не оглянувшись, шагнул влево, к пустым железным нарам. Будет еще время осмотреться. Что та камера, что эта…
Все шло по кругу. Третья «ходка»! В очень похожей камере уже приходилось сиживать и в 1924-м, и двумя годами позже. Одиночка с намертво замурованным окном, тяжелая железная дверь, сырые стены в известке и полная, абсолютная тишина. Надзиратели и те разговаривают шепотом, кричать же можно только в подвальном карцере.
Тот не римлянин, кто не гостил у Царицы! Центральная тюрьма – она же Царица Небесная. Когда-то здесь держали уголовный сброд, при Дуче настал час политических. Тогда и окна замуровали.
Князь, присев на нары, снял пиджак, уложил рядом. Никаких сюрпризов, все ясно и предсказуемо. Рано или поздно капрал Кувалда должен был вспомнить о Дикобразе. Два года назад, когда началась война в Абиссинии, начали брать всех подряд. Его, «сансеполькриста», почему-то не тронули, и князь даже слегка обиделся. Зато теперь все полной мерой, даже «иностранную державу» приплели. Некую…
О чемпионе Италии в полусреднем весе слыхать приходилось. Разведчик, «освещавший» итальянскую эмиграцию в Штатах, чем-то приглянулся Кувалде, и был зачислен в «чекисты». На этот раз бывшему боксеру велели разобраться с бывшим берсальером. Не слишком честно, весовые категории у них разные…
Тюремные навыки вспоминались быстро. Главное – не распускать нервы. В этих стенах начинает казаться, что времени уже нет, оно остановилось, исчезло. Но это не так. Ничто не вечно – ни эта камера, ни фашизм, ни синьор Бенито Муссолини.
Часы отобрали, но князь всей кожей чувствовал, как двигаются невидимые шестеренки, ползут стрелки по циферблату, как подрагивает тяжелый маятник, готовясь рассечь воздух. У Эдгара По каждый его взмах приближал неизбежную гибель, но здесь, в каменном колодце Центральной тюрьмы, Время стало союзником. Нужно лишь не мешать, доверившись его вечному ходу. «По всей строгости закона – или беззакония». Алессандро Руффо ди Скалетта весело улыбнулся. Еще поглядим!
«В Штатах вы не жили. Приехали, побыли там пару месяцев». На самом деле меньше, всего лишь пять недель. Вначале Нью-Йорк, потом Лос-Анджелес. Там он никого не знал и очень удивился, получив приглашение на грандиозную вечеринку в самом сердце Беверли-хиллз. Режиссер Джон Форд отмечал премьеру своего фильма «Синий орел».
* * *
…Шампанское оказалось выше всяких похвал, и Дикобраз, поддавшись соблазну, взял с подноса второй бокал. Первый выпил одним глотком – на огромной веранде было жарко и душно, хотя время близилось к полночи. Ни ветерка, звезды скрылись за тяжелыми низкими тучами, и не требовался метеоролог, чтобы предсказать близкую грозу. Однако в дом никто не спешил. Оркестр, дюжина негров в смокингах, играл что-то веселое и бесшабашное, пары кружились в танце, и никому не было дела до одинокого итальянца, пристроившегося неподалеку от огромных стеклянных дверей. Его это ничуть не смущало. Шампанское подают – и хорошо! Этот мир был князю совершенно незнаком, в кинематограф он ходил редко и, как правило, не на американские фильмы. Несерьезно! То ли дело, французы и немцы, да и родное итальянское кино иногда радует.
Из всех гостей Дикобраз узнал лишь Чарли Чаплина, но подойти не решился. Что он ему скажет? Спасибо за «Золотую лихорадку»? Это будет нечестно, фильм князю не очень понравился. Такое хорошее начало – и безобразный финал!
Кто и зачем его сюда пригласил, Дикобраз даже не пытался гадать. Узнает! В Лос-Анджелес он тоже не собирался, думая устроиться в Нью-Йорке, но за день перед отъездом в старый палаццо, что рядом с храмом Святой Марии улицы Мира, заглянул гость – коллега с его кафедры, теперь уже бывшей. Он и намекнул, что отставному берсальеру, ставшему теперь отставным преподавателем, в Городе Ангелов может найтись работа. Князь подумал – и решил рискнуть.
Оркестр сделал маленький перерыв, а затем вперед выступила певица – белая, в маленькой шляпке и коротком платьице. На этот раз музыка показалась знакомой. Джордж Гершвин, американская знаменитость. Кажется, тоже пишет для Голливуда.
Жизнь была бесцельной, как во сне,Все уснуло в мертвой тишине.Мне уже давно было все равно,Вдруг кто-то тук-тук, тукнул в дверь ко мне.Князь еле заметно поморщился. Современная музыка не ложилась на душу. То ли дело классика – или народные песни, настоящие, которые еще можно услышать в калабрийской глубинке. Да хоть здешний «кантри» под банджо, всё лучше, чем эта пошлость!
Так в дом вошла любовь,И стало светло.Так в дом вошла любовь,И солнце взошло.Он отхлебнул из бокала. Шампанское уже успело согреться. Жаркое лето выдалось в году от Рождества Христова 1926-м!
– Приличный костюм, – прозвучало слева, от дверей. – У вашего портного есть вкус!
Дикобраз неспешно повернулся.
– Как и у вашего ювелира.
Вдруг сердцу показалось,Будто любовьШепнула несколько слов,Хоть слов не слышно было.…Диадема в белых камнях, тяжелые серьги, ожерелье, на пальцах правой руки три кольца – три маленьких огонька, синий, красный и зеленый. Серое обтягивающее платье, прическа – «марсельская волна». Лицо холеное и властное, всему прочему под стать.