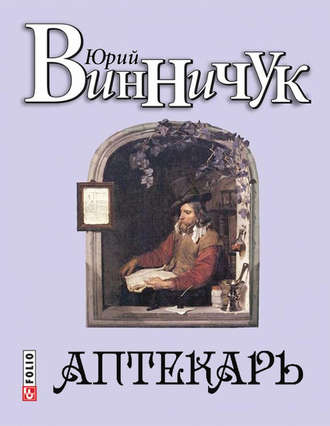
Полная версия
Аптекарь
– Святовит – наш истинный бог, – говорил отец.
– Но ведь бог – один? – спрашивала Рута.
– Да, один, – соглашался отец, – и мы его называем Святовитом. Евреи зовут Иеговой, турки – Аллахом… А он – один. И мы должны обращаться к нему тем именем, которое он нам сообщил, а не каким-то другим.
И она молилась Святовиту, чувствуя, как на душе становится легче, а в голове – яснее. Потом она заглянула в дом и убедилась, что отец уже не дышит. Тело его как бы опало, испустив дух, словно стало более плоским, он лежал с открытым ртом – ведь это изо рта душа выпорхнула, – и глаза у него были открытыми и удивленными. Рута опустила мертвые веки, постояла минуту, затем налила в высушенный коровий пузырь сметану, завязала в узелок и, закинув его на плечо и прихватив отцовскую палку, отправилась к старой Вивде, что жила за лесом.
Вивдя была ведьмой и помогала всем, кто к ней приходил. С отцом Руты они были знакомы давно, обменивались рецептами зелий, настойками и лекарствами. Вивдя была единственным человеком, к которому Рута могла обратиться в этот скорбный час. Она вспомнила, как летом ходила со старухой за травами. Вивдя выдернула какую-то былинку и протянула Руте, чтобы та попробовала ее листики на ощупь, они оказались гладкими и теплыми, словно кто-то их подогрел. Вивдя оторвала кусочек листика и попробовала на вкус, закрыв глаза. Так она определяла, сильное ли зелье. Вивдя очень осторожно рвала зелье, стараясь не повредить корней, а когда ей нужны были именно корешки, то кланялась до самой земли и благодарила. Затем складывала зелье в торбочку, висевшую на поясе. Торбочка вся начисто пропахла этим зельем, да не только свежим, но и прошлогодним, и все голоса этого зелья сливались в торбочке в одно целое. Когда Рута брала пустую торбочку в руки, то слышала его шепот и шорох. Она смогла много знаний о зельях перенять от старухи, и Рута чувствовала к ней теплую благодарность, совсем не воспринимая ее как ведьму.
Дорога к ней была неблизкая, вела через густейший лес, скорее, не дорога, а тропа, которую протоптали звери, идя на водопой к реке. Рута зверей не боялась, знала заговоры – один на волка, второй на медведя, третий на змею или на полоза; однажды она таки повстречала волка, но прошептала несколько слов, и тот, съежившись, словно ему стыдно стало, исчез в чаще. Но боялась Рута всякой чертовщины, которая в лесу водилась, и было ее много, и подстерегала она на каждом шагу, особенно в конце дня в темных затененных местечках, откуда уже начинал вытекать черный мед ночи, крадучись, как зверь…
– Рута, – говорил ей отец, – ты же не такая, как все люди. Ты другая. Ты чувствуешь иначе, и видишь иначе, и слышишь иначе. Хочешь знать, каковы человеческие чувства? Надень перчатки и прикоснись к чему-нибудь. То, что ты почувствуешь пальцами, – это и есть человеческие чувства. Натяни шапку на уши и слушай. То, что услышишь, – таким и есть человеческий слух. Закрой глаза краем платка и смотри. То, что увидишь, – таким и есть зрение человеческое.
Рута видела то, что человеческому глазу было недоступно. Она замечала маленьких козариков,[5] которые шныряли под ногами, придерживая ручками свои пестрые шапочки, и при этом что-то пищали, как цыплята, видела, как на деревьях прыгают чеберяйчики, а потом скрываются в листве, и только их глаза сверкают, как роса, и следят за каждым шагом, видела невидимых зверей без тел и безо рта. Она видела, как марево клубится между деревьями и формируется в страшное раздутое чудовище, у которого множество рук, и руки эти тянутся к девушке, вот-вот схватят, но она тогда крестилась и проговаривала «Отче наш», а чудовище сдувалось, уменьшалось и растворялось. Деревья вдоль тропы качались и громко скрипели, как движущиеся скелеты, ветви так и старались уцепить девушку за платье или за волосы, Рута отмахивалась клюкой, и ветви, словно обожженные, отдергивались, а деревья аж вскрикивали и стонали в бессильной ярости.
В лесу пахло грибами и сыростью, в листве возился ветер, сдувая паутинки, которые липли к лицу и не хотели отставать, а на дне ручья постукивали камешки, словно передавая тайную весточку этим постукиванием. И хотя в окружающем воздухе царила смутная тревога, точно вот-вот должно что-то случиться и, казалось, чувствовала это самая мелкая травинка, однако Рута была спокойна, не сбавляла шага ни на мгновение и шла через лес не оглядываясь, хотя за спиной и слышались разные загадочные шелесты и шорохи.
Глава 3
Аптека «Под Крылатым Оленем»
Из записок Лукаша Гулевича«Ноябрь – декабрь 1646 года.
– Ну, пан Мартин, – сказал лавник[6] и член лавничего суда пан Бартоломей Зиморович,[7] – наслышаны мы о вас и о ваших подвигах. – И, заметив мой удивленный взгляд, сказал: – Дядюшка ваш покойный пересказывал нам ваши письма, как вы с турками воевали. Кто знает, не придется ли и здесь повоевать, потому как тревожная наступила пора. Вот вам ключи от вашей аптеки. Если будете нуждаться в слуге или служанке, дайте знать, кого-нибудь вам подыщем, потому что дом большой и сад там просторный – есть куда руки приложить.
Я поблагодарил и сказал, что сначала осмотрюсь. На том мы расстались. Дом дяди Мартина стоял на углу Рынка и слепой улочки под названием Дорога за оленем, потому что сам дом, как и аптека, назывался «Под Крылатым Оленем».[8] Вверху под крышей и правда был вырезан олень с распростертыми крыльями, а над дверью красовалась вывеска в виде ступки, в которой толкут лекарства. Сразу с улочки вела дверь в аптеку с тремя просторными помещениями, над которыми находились две комнаты, а над ними – заваленный всевозможным хламом чердак. Но этого словно было мало – так еще и большой подвал с отдельным входом, который арендовала винодельня пана Вацлава Прохазки из Брно. Сам пан винодел сразу же поспешил нанести мне визит и поинтересоваться, не продлю ли я ему аренду, при этом вручил десять золотых и несколько бутылок вина. Я сказал, что пока насчет подвала у меня нет никаких планов, и мы с паном Вацлавом распрощались в хорошем настроении, подкрепленном мальвазией.
Индермах, как принято здесь называть заднюю часть дома, выходил в сад, полностью покрытый снегом, из которого торчали сухие побеги малины, скрюченные ветви кустов и тоненькие стволы каких-то молодых саженцев. Вокруг сада возвышались стены – меня это полностью удовлетворяло, потому что я не люблю, когда кто-то ко мне заглядывает.
Первое, что я сделал, – пооткрывал все окна, потому что чувствовался застоявшийся тяжелый воздух. Помещение аптеки и остальные комнаты требовали немало усилий, чтобы их убрать, вычистить, вытряхнуть, потому что все так сильно покрылось пылью, что двигаться я должен был достаточно осторожно, дабы не поднимать при каждым шаге сизые облака. В аптеке все стены до потолка были заставлены шкафами и полками из ясеня. На полках стояли глазурованные кувшины из гданьской глины, красиво разрисованные, и на каждом была каллиграфическая латинская надпись. А в шкафах – ящички и коробочки, запертые на ключ и тоже тщательно подписанные. В стеклянных банках, наполненных чем-то густым и темным, сквозь мутную жидкость можно было разглядеть зародыши каких-то странных сморщенных существ, которые неподвижно зависли в этой жидкости, словно планеты неизведанной галактики, но если их взять в руки, они начинали раскачиваться, подниматься и опускаться, вертясь во все стороны, словно стремясь продемонстрировать каждую мельчайшую деталь своего уродливого желтого тела. В других стеклянных банках и баночках хранились чудодейственные экстракты из целебных трав и минералов, пучки засушенного зелья, всякие корешки свисали гирляндами с балок, наполняя помещение опьяняющим ароматом лугов, степей, лесов и заморских дебрей. К сожалению, и это все было покрыто пылью и паутиной, поэтому придется что-то выбросить, а что-то прополоскать и снова высушить. Днем солнечные лучи играли на стеклянных банках завораживающую мелодию, полную радостных взблесков и безумного танца пылинок, но вечером они выглядели мрачно. Сушеные змеи, черепа и копыта животных висели на стенах, а посреди прилавка щерил большие желтые зубы вылинявший человеческий череп, из зубов у него торчала резная глиняная трубка. Еще на прилавке были весы с мелкими гирьками и медными лепесточками, на которых были выбиты от одного до десяти лотов…
Я сначала просто не знал, за что браться, и в первый день освободил от хлама на жилом этаже только одну комнату, в которой собирался отдыхать, теперь там кроме широкой ореховой кровати и шкафа не было больше ничего. Я выбросил на балкон одеяла, перины и подушки, от души выбил их дощечкой и оставил на солнце, затем все осторожно смел и мокрой тряпкой вытер, но когда, довольный собой, вышел из комнаты, то тяжело вздохнул – лестница, ведущая вниз, и партер тоже были покрыты пылью. Словом, на уборку я потратил весь день, но расчистил лишь небольшую часть дома. Наконец, усталый, я откупорил бутылочку мальвазии и выпил ее у камина. Затем залез под перину, которую удалось немного нагреть у огня, укрылся с головой и заснул. Снились мне снежные Альпы.
На следующий день я через винодела нанял уборщиц, Магдулю и Гальшку, активных молодиц, и они, наконец, привели все в порядок, время от времени строя мне глазки из-под ресниц. А когда я спустился в винную лавку, чтобы перекусить, пан Прохазка тихонько мне сообщил, что Гальшка – та, у которой пышные груди и гибкий стан – сама напросилась ко мне на уборку, и что муж ее умер во время чумы, так что, если мне охота, я мог бы взять ее под перину. Я поблагодарил за совет и поинтересовался, не мог бы пан винодел сам это организовать, потому что их пока две, и поговорить с Гальшкой один на один нет возможности. Он с радостью согласился, но попросил меня, чтобы в дни, когда у Гальшки будут месячные, я не пускал ее в аптеку, не то все его вино может прокиснуть. Да и я рискую тем, что мои врачебные инструменты могут покрыться ржавчиной, а лекарства свернуться, потому что такова страшная сила месячных. Я не стал спорить, зная, что эта мудрость достигает еще времен Гиппократа, и подумал, что неплохо было бы получить немного женской ласки после такого длительного путешествия. Когда вечером я рассчитался с девушками, и они вышли, я услышал, как винодел позвал Гальшку, а через минуту она постучала ко мне. Я открыл, она улыбнулась и сказала: «Ну, вот я пришла».
Я пригласил ее в кухню, придвинул ей скамеечку поближе к камину, в котором взволнованно потрескивали поленья, налил вина и угостил изюмом из запасов дяди Мартина.
– Здесь еще много работы, – сказала она. – Я поглядела в шкафчики – там куча всяких аптекарских причиндалов, но все это тоже в пыли. Сегодня просто не хватило времени. Если хотите, я завтра приду и вытру и вымою все эти стекляшки.
Она краснела и пыталась говорить о деле, хотя объединяло нас что-то другое – то, что должно было случиться, то, чего ждали мы оба, но она стеснялась, и лицо ее в отсветах пламени рдело. Ей не было и тридцати, овдоветь в таком возрасте явно тяжело, так что ей хотелось того же, что и мне. Я взял ее за руку, она ее сжала, продолжая смотреть на танец пламени, я поднялся, и мы отправились наверх. Камина в комнате я не разжег, но холодно не было. Гальшка заглянула под кровать, спросила: «А где?…» – и запнулась. Я догадался, что она имеет в виду ночной горшок, и развел руками.
– А куда же вы?… – засмеялась она.
Я показал на балкон, который выходил в сад, и это вызвало у нее еще больший смех, она спустилась вниз, позвякала утварью, затем захлюпала вода, и, в конце концов, она принесла черный глиняный горшок с двумя ручками. С довольным видом сунула его под кровать и стала раздеваться. В постели было холодновато, но наши тела так горели, что скоро я во время любовных ласк вспотел и должен был сбросить перину. Затем среди глухой ночи я прижался к ее спине и выступающим ягодицам, еще раз вошел, и в этот раз все было медленно и размеренно.
Когда я проснулся, Гальшки рядом со мной не было, а снизу доносились ароматы еды. На столике стояла миска, а рядом – кувшин с водой, рядом свисало полотенце. Я выглянул в окно на улицу и увидел Гальшку, закутанную в теплый платок, с черным горшком в руках. Она ждала телегу, увенчанную большой бочкой, в которую сливали нечистоты. Четверо смуглых причудливо одетых мужчин с длинными усами правили лошадьми. Еще один человек, скорее всего их хозяин, стоял сбоку и смотрел с иронической улыбкой, как люди подходят к бочке и, отворачивая головы, выливают содержимое своих горшков, а потом так, словно совершили какое-нибудь святотатство, быстренько исчезают. Горшки были разные – белые, разноцветные, поменьше и побольше, но черного не было ни у кого. Интересно, что в нем варил аптекарь? Может, квасил огурцы?
Пока я оделся и умылся, Гальшка вернулась и, улыбаясь, поставила горшок снова под кровать.
– Яичницу хотите? – спросила.
Вместо ответа я поцеловал ее, она засмеялась – видимо, ей нравилась моя немногословность. После завтрака Гальшка занялась чисткой аптекарских принадлежностей, а я углубился в учебники. К счастью, в первые годы в Падуе нас усиленно учили приготовлять лекарства самостоятельно, но, предполагая, что аптекарский цех захочет меня проэкзаменовать, я решил освежить свои знания и принялся штудировать самые популярные лекарства, чтобы в день, когда аптека заработает, не ударить в грязь лицом. Многие лекарства практически были мне известны, надо было только восстановить в памяти рецептуру и пропорции. К счастью, в книгах и записках Мартина и его дяди можно было найти много интересного и важного для меня, хотя и случались такие чудеса, как «De quinta Essentia», «Aurora philosophorum», «Philosophia occulta», «Thesaurus thesaurorum» и другие. Видимо, дядюшка Мартина интересовался оккультными науками, и как знать – не был ли он некромантом. Трактат «Сlavicula Salomonis», или же «Ключ Соломона», посвященный практической магии, был здорово потрепан, а на шмуцтитуле выведено каллиграфическими буквами: «Яко эта «Сlavicula» мудрость Соломона открывает, так пусть же она откроет и сердца…». Фраза не была оборвана, а просто затерта. Видно, там указывалось, о чьих сердцах идет речь. Я сразу переставил все ненужные мне книги на самую верхнюю полку, а те, которые нужны были для работы, расположил под рукой.
В книге рецептов дяди Мартина можно было найти немало странностей. Например, масло из щенков: «Взять двух новорожденных щенков, изрезать их на части, уложить в глазурованный горшок вместе с фунтом живых червей. Варить в течение двенадцати часов, пока щенки и черви хорошо не разварятся. Это прекрасное средство для подкрепления нервов, от ишиаса, паралича». Или масло из ящериц: «Возьмите тузинь[9] живых зеленых ящериц, бросьте их в три фунта теплого орехового масла, варите на слабом огне. Средство от лишая на голове и от грыжи». Порошок лунный: «Возьмите по полторы унции из копыта лося и человеческого черепа, стронция серебра, соли из жемчуга, масла из рога оленя, павлиньего дерьма, сухой плаценты женщины, которая при первых родах имела дитя мужского пола, – хорошо от эпилепсии». Пластырь из человеческой крови: «Взять кровь молодого здорового мужчины, высушить ее на солнце, а затем растереть. Такой порошок хорош для застарелых язв». «Взять ласточкино гнездо и изрезать его на мелкие куски, добавить пол-унции кошачьего мозга, полторы унции обжаренного собачьего, совиного и ласточкиного помета. Это средство вылечит от боли в животе».
В то же время мне не хотелось запустить и хирургию, ведь Мартин сначала все-таки учился на хирурга, пока дядя не убедил его перейти на фармацию. В конце концов, мы оба получили хирургическую практику в госпитале мальтийских рыцарей и на Кандии.
Аптека стояла полгода на замке, но, вероятно, как раз перед смертью дядя Мартина получил свежий товар, который еще не успел рассортировать и распаковать. Все лежало так, как прибыло с караваном или на корабле во Львов: в узелках, тюках, свитках, коробках, бурдюках, мешках или лыковых лукошках, на которых черной краской были поставлены различные знаки. Вместе с Гальшкой мы все это разобрали и разложили по шкафчикам и полкам. А было здесь немало галуна, камфары, меркурия[10] и янтаря, в отдельных баночках содержались различные душистые смолы – амбра и ладан, закупленные у португальских купцов, сицилийская манна, греческая мастика, трагант с острова Мореи, который снимает лихорадку, арабское алоэ, сандал красный и желтый, индиго из Багдада, а в жестяном ящичке – ароматные палочки, в мешочках, старательно перевязанных и обозначенных аккуратными наклейками, покоились пряности и приправы: гвоздика, лавровый лист, турецкий тмин, индийский имбирь, кардамон, мускатные цветы и шарики, татарское зелье, различные сорта перца, и самый главный – малабарский, египетская кассия в стручках, шафран итальянский и испанский, корица, разнообразные сорта сахара – и белый, и ледяной багдадский, и бурый гишпанский, сушеная и вяленая бакалея, цукаты лимонные и апельсинные, миндаль, фиги, дактили, изюм и другие лакомства, которые Гальшка удержаться не могла, чтобы не попробовать.
В одном из больших ящиков я обнаружил множество маленьких бутылочек с настойками, ромами и водками с разными вкусами. Аптеки торговали и таким товаром, который спрашивали преимущественно женщины. А пряности приносили куда больше выручки, чем сами лекарства, потому что стоили дорого, как и афродизиаки, сведения о которых публика черпала из календарей и советчиков, где расхваливали эти средства в выражениях: «подъем совершает», «Венеру возбуждает», «женщину разжигает». Поэтому каждая аптека должна была иметь шафран, перец, имбирь, сельдерейную настойку и трюфели. На лекарствах заработать было непросто, учитывая количество аптек во Львове, а ведь кроме городских аптек были еще и монастырские, с которыми цех аптекарский пытался бороться, а еще торговали лекарствами странствующие купцы, которых прозвали масларями, потому как носили они в ящиках за плечами лекарства от многих болезней, а также духи, масла и мыло. Все это были обыкновенные проходимцы, которые не разбирались в медицине, но брались давать советы и выписывать лекарства, распространяя суеверия.
– Бальзам! – прочитала удивленная Гальшка, вытирая пыль с квадратной темно-зеленой бутылки. – Что это такое? Тоже водка? – спросила она игриво, потому что уже сняла пробу с апельсиновой настойки.
– Нет, это лекарство, – сказал я, – бальзам вытекает из особых кустов, похожих на виноградную лозу, а растут они на том самом месте, где отдыхала когда-то Наисвятейшая Дева со Святейшим Младенцем Иисусом, когда должна была бежать в Египет. Эти кусты могут брать влагу только из одного-единственного источника, в котором Богородица стирала пеленки. Любая другая вода для них смертельна. Но этого источника до нее не было. Когда она не могла допроситься воды у местных жителей, маленький Иисус указал ей рукой, где может быть источник, и она раскопала его руками. Теперь там образовалось целебное озеро, куда приходят омываться и христиане, и сарацины. Всего бальзамических кустов четыреста. Но только христиане могут добывать бальзам, потому что он засыхает, если его касается рука неверного. Сарацины только стоят на страже и следят, чтобы никто не украл хотя бы каплю чудодейственной жидкости. В определенную пору года христиане делают надрез на дереве и собирают его сок в сосуды. Надрез делают стеклом или костяным ножом, железо дереву вредит. Но сок не течет, как у березы или клена, а медленно капает, поэтому нужно сидеть под деревом и следить, иногда неделю или две. Этот сок имеет очень приятный запах, настолько приятный, что каждый непроизвольно засыпает. Собрав полный сосуд бальзама, его выставляют на солнце на двадцать дней, после чего на огне собирают пену, и уже чистую жидкость разливают по бутылкам. Чистой субстанции остается немного, и она стоит очень дорого. Поэтому бальзам часто фальсифицируют, растворяя кипрским маслом или медом, а также добавляя сосновой смолы.
– И на что этот бальзам годится?
– Он очень хорошо залечивает раны и затягивает шрамы. Его чрезвычайно трудно достать. Удивляюсь, как это удалось дяде. В Венеции даже богатые рыцари не могли его раздобыть.
– А что такое «те-ри-ак»?
– Он тоже относится к самым дорогим лекарствам. Потому что его умеют производить только в Венеции. И только некоторые фармацевты знают секрет его изготовления. Чтобы получить териак, нужно шестьдесят четыре различных составляющих очень редких и дорогих лекарств, а главным из них является чудодейственное мясо змеи, которую очень трудно найти и поймать.
Гальшка с большой осторожностью положила баночку на полку и, когда красноречиво посмотрела на меня, я обнял ее, и мы исчезли в комнате. За окном был теплый полдень, с крыш и карнизов лениво слезились сосульки, под периной мы быстро разомлели и заснули.
Через несколько дней аптека изменилась до неузнаваемости. Как я и предполагал, большинство посетителей моей аптеки спрашивали не лекарства, а настойки и различные вкусовые водки. Обычно это были пани, которые, стесняясь, обязательно отмечали, что эти напитки нужны им для выпечки. Но тут же выдавали настоящую цель покупки, потому что просили еще и чего-нибудь на закуску: медовика, изюму, миндаля или сахару.
И вот так прошла зима. Гальшка занялась стряпней и уборкой, но ночевать ходила домой, чтобы не подвергаться сплетням, поэтому нежностями мы занимались только днем. Я платил ей в месяц два золотых, и она была довольна».
Глава 4
Битва за душу
Октябрь 1646 года
Старая Вивдя считала, что бессчетное количество разной мошкары, поселившейся на ее подворье и даже в доме, – признак ее благосостояния и залог счастья. Пауки свободно сновали по окнам и стенам, окутывая паутиной каждый свободный уголок, а в паутине барахтались зеленые мухи, комары и ночные бабочки, постепенно превращаясь в бесформенную высохшую субстанцию. Старуха собирала в лесу из-под коры красных с черными крапинками жучков, ссыпала их в бутыль и заливала кленовым сиропом, бутыль стояла на подоконнике, и в ней купалось солнце, жидкость постепенно приобретала розоватый оттенок, а когда ведьма подливала яблочного уксуса, смесь темнела до цвета жженого сахара, то, что должно было осесть – оседало, а жидкость становилась прозрачной, и теперь это было первосортное приворотное зелье.
Хата Вивди стояла на холме, и когда начинали дуть ветры, а чахоточные узловатые ветки, словно вороньи лапы, скользили и пронзительно скрежетали по свиному пузырю, затягивавшему окна, дымоход гудел неистово, аж завывал, и холод, как ни топи, все же проникал сквозь щели в дверях и окнах, старая ведьма куталась в лохмотья, забивалась в угол и стучала зубами. «Отлетала, отлетала свое, а где мой покой, где мое доживание века? Промелькнуло мимо меня столько дней и столько деревьев придорожных». Вон уже и крестьяне здороваться начали с тех пор, как она молоко не ворует, заработка никакого, вот разве девушки придут – погадайте, мол, – так принесут копеечку, чтобы с голоду не помереть. Еще повезло, когда мельник обратился к ней, чтобы сглаз с мельницы сняла, она и сняла – попросила водяного Жбура, чтобы лотки не останавливал, а за это отдала ему цедилку, в которую молоко человеческое собирала. Теперь водяной сам молоко крадет, как только коровы на водопой придут. А прошлым летом уже наоборот – попросила водяного, чтобы все-таки остановил лотки, чтобы снова ее позвали сглаз снимать. Отдала водяному терновый платок, который можно постелить на воде и лечь сверху, и он не потонет. Мельник в долгу тоже не остался – каждый раз давал по мешку муки.
Голод завозился в ней, заскулил, горько-сладкая изжога подкралась к горлу, ведьма, кряхтя, встала с кровати, развязала мешок, бросила две горсти муки в кастрюлю, плеснула немного воды, посолила и быстро замесила густое тесто, затем вылепила из него две лепешки и положила прямо в золу, еще тлеющую в печи. Пошарила еще и нашла луковицу, обтерла сухими пальцами и, не чистя, положила рядом с лепешками. Затем вышла из хаты в небольшой огород и выкопала палкой большую морковку, отряхнула с нее землю и огляделась. Тучи собирались и сбивались в темные сытые стада, что-то стонало в лесу и ухало, ветер гнулся в ладонях и дергал за одежду, словно разъяренный пес. Что-то надвигалось, что-то тревожное и страшное. Старуха чувствовала это, и страх погнал ее обратно в дом.
Только она помыла морковку и села на скамью, как вдруг что-то пронзительно засвистело в дымоходе, а через миг выкатился на пол черный клубок, подскочил вверх, ударился о стену и, подкатившись к двери, исчез в щели под порогом. Ведьма глянула на окно – там прошмыгнула чья-то тень, а в дверь раздался стук.
– Кого там нелегкая несет? – вздохнула, но не двинулась с места. Дверь приоткрылась, и в дом вошел худощавый, стройный паныч, одетый по немецкой моде в штаны, которые застегивались под коленями, и в черные чулки и туфли с пряжками. Кафтан с отворотами сидел на нем как влитой. Под черными тонкими усиками играла задиристая улыбка, на щеках пылали огнем лохматые бакенбарды.











