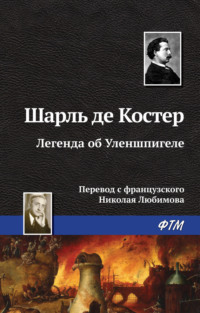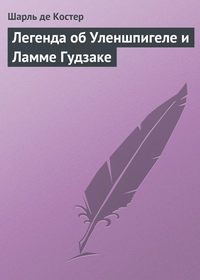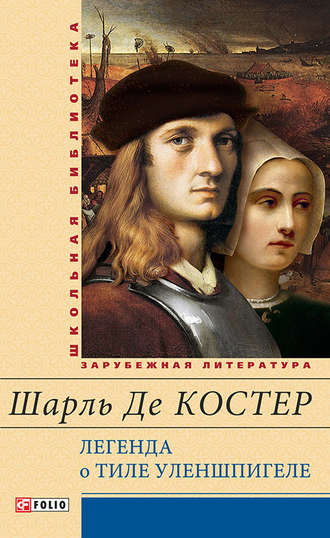
Полная версия
Легенда о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, их приключениях отважных, забавных и достославных во Фландрии и других странах
– Ты тоскуешь? – сказала она.
– Да, – ответил он.
– Отчего?
– Я не знаю; но эти яблони и вишни в цвету, этот тёплый воздух, точно пронизанный молниями, эти маргаритки, розовеющие на лугах, терновник, весь белый у нас на заборах… Кто скажет мне, отчего я так взволнован? Мне хочется не то умереть, не то уснуть. И сердце моё бьётся так сильно, когда я слышу, что проснулись в ветвях птички, когда я вижу, что прилетели ласточки. Мне хочется нестись куда-то дальше солнца и месяца. То мне жарко, то холодно. Ах, Неле! Я хотел бы оторваться от этой земли, или нет, я хотел бы отдать тысячу жизней той, которая меня будет любить…
Неле ничего не говорила, но радостно улыбалась и смотрела на Уленшпигеля.
XXXII
В День поминовения усопших Уленшпигель вместе с несколькими озорниками вышел из собора Богоматери; среди них был и Ламме Гудзак – точно ягнёнок в стае волков.
Ламме щедро угостил всех доброй выпивкой, так как по праздникам и по воскресеньям получал от матери по три патара.
Они всей компанией отправились в «Красный щит» к Яну ван Либеке, у которого нашли доброе кортрейское пиво.
Выпивка развеселила их; они говорили о церковной службе, и Уленшпигель заявил, что панихиды приносят пользу только попам.
Но был в их компании иуда, который донёс на Уленшпигеля. Несмотря на слёзы Сооткин и доводы Клааса, Уленшпигель был взят по обвинению в ереси и заключён в тюрьму. Месяц и три дня сидел он за решёткой, не видя живой души. Тюремщик съедал три четверти еды, предназначенной заключённому. В это время наводили справки о его доброй и дурной славе. Оказалось, что он только злой проказник, вечно насмехающийся над своими ближними, но никогда не изрекал хулы на Господа Бога, Деву Марию или святых угодников. Поэтому и приговор был мягок: за такое преступление ему могли наложить на лоб клеймо раскалённым железом и бичевать до крови.
Принимая во внимание его юность, судьи постановили: в наказание он в одной рубахе, с обнажённой головой и босыми ногами, со свечой в руке, должен будет шествовать вслед за священниками в первом крестном ходе, который выйдет из церкви.
Это было в день Вознесения.
Когда крестный ход возвращался в церковь, Уленшпигель остановился в дверях собора и провозгласил:
– Благодарю тебя, Господи Иисусе! Благодарю господ священнослужителей! Молитвы их сладостны и прохладительны для душ, страдающих в огне чистилища. Ибо каждое «Ave» есть ведро воды, изливающееся на их спины, а каждое «Pater» – целый чан!
Народ слушал всё это с благоговением, но не без усмешки.
В Духов день Уленшпигель также должен был идти за крестным ходом, в рубахе, босой, с обнажённой головой и свечой в руке. На обратном пути он остановился на паперти, благоговейно держа свечу, – причём, однако, корчил рожи, – и провозгласил громко и звучно:
– Если молитвы христианские – великое облегчение для душ, томящихся в чистилище, то молитвы каноника собора Богородицы, святого человека, преуспевающего во всяческих добродетелях, так успешно гасят огонь чистилища, что всё пламя его мгновенно превращается в лимонад. Но чертям, терзающим там грешников, не достаётся ни капельки.
Народ внимал ему с великим благоговением, но про себя посмеиваясь, а каноник пастырски улыбался.
Затем Уленшпигель был изгнан на три года из Фландрии с тем условием, что за это время он совершит паломничество в Рим и принесёт оттуда прощение папы.
За приговор этот Клаас уплатил три флорина, да ещё на дорогу дал сыну один флорин и паломническое облачение.
В час разлуки, обнимая Клааса и Сооткин, бедную рыдающую мать, Уленшпигель был очень удручён. Они провожали его далеко за город вместе со многими горожанами и горожанками.
Вернувшись домой, Клаас обратился к жене:
– Знаешь, жена, это, по-моему, очень жестоко – так сурово наказать мальчика за несколько глупых слов.
– Ты плачешь, муж, – сказала она, – ты любишь сына больше, чем это кажется, ибо рыдания сильного человека подобны стенанию льва.
Но он не ответил ей.
Неле спряталась на чердак, чтобы никто не видел, что она плачет об Уленшпигеле. Издали шла она за Сооткин и Клаасом и их спутниками. Увидев, что Уленшпигель остался один, она бросилась бежать за ним, догнала и кинулась ему на шею со словами:
– Там будет столько красивых дам…
– Красивых – может быть, – отвечал он, – но таких свежих, как ты, конечно, нет: их всех сожгло солнце.
Долго шли они вместе. Уленшпигель был погружён в глубокое раздумье и только иногда приговаривал:
– Заплатят они мне за свои панихиды.
– Какие панихиды и кто за них заплатит? – спросила Неле.
– Все деканы, каноники, патеры, пономари, попы, толстые, высокие, низкие, худые, которые морочат нас. Если бы я был прилежный труженик, они этим путешествием лишили бы меня плодов трёхлетней работы. Теперь поплатится бедный Клаас. Сторицей заплатят они мне за эти три года, и пропою же я им панихиды на их же денежки.
– Ах, Тиль, будь осторожен, – предупреждала Неле, – они тебя сожгут живьём.
– О, я в огне не горю и в воде не тону, – ответил Уленшпигель.
И они расстались: она – рыдая, а он – озлобленный и удручённый.
XXXIII
В среду, проходя через Брюгге, он увидел на рынке женщину, которую тащил палач с помощниками. Вокруг них толпилось множество других женщин, осыпавших её грязными ругательствами.
Взглянув на её платье, увешанное красными лоскутами, на «камень правосудия», висевший на её шее на железных цепях, Уленшпигель понял, что эта женщина виновна в том, что торговала юным и свежим телом своих невинных дочерей. В толпе говорили, что её зовут Барбарой, что она замужем за Ясоном Дарю и что должна переходить в этом одеянии с площади на площадь до тех пор, пока не вернётся вновь на Большой рынок, где взойдёт на эшафот, уже воздвигнутый для неё. Уленшпигель шёл за ней вместе с галдящей толпой. По возвращении на рыночную площадь её привязали к столбу, и палач насыпал перед ней кучу земли и пучок травы, что должно было обозначать могилу.
Уленшпигель узнал также, что её уже бичевали в тюрьме.
Дальше на пути он встретил бродягу Генриха Маришаля, которого уже раз вешали в кастелянстве Вест-Ипра. Генрих показывал следы верёвки у него на шее. Он рассказывал, что он спасся от смерти чудом. Уже вися на верёвке, он вознёс моления к Галльской Богородице. Когда суд и должностные лица удалились, верёвка, уже не душившая его, разорвалась, и он, упав на землю, освободился.
Но вскоре затем Уленшпигель узнал, что этот висельник вовсе не нищий и не Генрих Маришаль и что поощряет его шататься повсюду и распространять эту ложь сам протоиерей собора Галльской Богородицы, снабдивший его грамотой за своей подписью. Россказни о мнимом спасении этого бродяги принесли церкви обильные плоды. Люди, которые чуяли виселицу более или менее близко от себя, толпами стекались к Галльской Богоматери и много жертвовали. И долго ещё Божия Матерь Галльская носила название «Богородицы висельников».
XXXIV
В это время инквизиторы и теологи вторично предстали перед императором Карлом и заявили ему следующее:
– Церковь гибнет; значение её падает; если он одержал столько славных побед, то ими обязан он молитвам католической церкви, коими держится на высотах трона его императорское величие.
Один испанский архиепископ потребовал, чтобы император отрубил шесть тысяч голов или сжёг шесть тысяч тел, чтобы искоренить в Нидерландах злую лютерову ересь. Его святейшему величеству это показалось ещё недостаточным.
И куда ни приходил бедный Уленшпигель, везде, исполненный ужаса, он видел только головы, торчащие на шестах; он видел, как девушек бросали в мешках в реку, голых мужчин, распятых на колесе, избивали железными палками, женщин бросали в ямы, засыпали их землёй, и палачи плясали сверху, растаптывая им груди. Но если кто отрекался от своих убеждений, духовники получали по двенадцать су за каждого раскаявшегося.
В Лувене он видел, как палачи сожгли сразу тридцать лютеран, – костёр был зажжён посредством пушечного пороха. В Лимбурге он видел, как целая семья – мужчины и женщины, дочери и зятья – с пением псалмов взошла на эшафот. Только один старик закричал, когда пламя охватило его.
С болью и ужасом брёл Уленшпигель по этой несчастной земле.
XXXV
В полях он отряхивался, как птица, как спущенная с цепи собака, и при виде деревьев, лугов и ясного солнца на душе его снова становилось веселее.
После трёхдневного пути пришёл он в брюссельскую округу, в богатую деревню Уккле. Проходя мимо деревенской гостиницы «Труба», он почуял сладостный запах жаркого. Какой-то бездельник стоял рядом с ним и тоже, задрав нос, наслаждался этим благоуханием. Уленшпигель обратился к нему с вопросом, в честь кого воздымается к небу этот праздничный фимиам. Тот ответил, что это братья ордена «Упитанная рожа» собираются здесь в час вечерней трапезы, чтобы отпраздновать годовщину освобождения Уккле, которое совершили женщины и девушки в незапамятные времена.
Издали увидел Уленшпигель шест, на котором высилось чучело попугая, а вокруг шеста – женщин, вооружённых луками.
На его вопрос, с каких это пор стали бабы стрелкáми, бездельник, вдыхая в себя аромат соуса, ответил, что в давние времена этими самыми луками женщины общины Уккле отправили в лучший мир более сотни разбойников.
Уленшпигель хотел узнать подробности, но бездельник сказал, что он голоден и не может вымолвить ни слова, пока не получит патар на пропитание и выпивку. Из жалости Уленшпигель дал ему патар.
Получив монету, нищий юркнул в трактир, точно лиса в курятник, и победоносно явился оттуда, неся пол колбасного круга и здоровенный ломоть хлеба.
Вдруг послышались приятные звуки бубен и скрипок; показалась толпа танцующих женщин, в кругу их плясала одна красотка с золотой цепочкой на шее.
Парнишка, блаженно улыбавшийся с тех пор, как насытился, объяснил Уленшпигелю, что молодая красотка – королева стрельбы из лука, что зовут её Миэтье и что она жена господина Ренонкеля, общинного старшины. Затем он попросил у Уленшпигеля шесть лиаров на выпивку. Получив их, поев и выпив, он сел на солнце и стал ковырять пальцами в зубах.
Увидев Уленшпигеля в паломническом одеянии, женщины окружили его хороводом с криками:
– Здравствуй, хорошенький богомолец! Издалека ли ты идёшь, молоденький богомолец?
Уленшпигель ответил:
– Я иду из Фландрии, прекрасной страны, столь богатой милыми девушками.
И он с грустью подумал о Неле.
– В чём твоё прегрешение? – спросили они, переставая кружиться вокруг него.
– Ах, прегрешение моё, – сказал он, – так велико, что я не могу назвать его. Но у меня есть и ещё кой-что, также не малых размеров.
Они расхохотались и стали расспрашивать, почему это он идёт с посохом паломника и нищенской сумой.
– Я в недобрый час сболтнул, что панихиды выгодны только священникам, – ответил он.
– Они получают за молитвы хорошую мзду, – говорили женщины, – но молитвы спасают грешные души в чистилище.
– Я там не был, – сказал Уленшпигель.
– Хочешь закусить с нами, паломник? – спросила самая хорошенькая.
– Конечно, хочу закусить с вами и закусить вами, тобою и всеми остальными по очереди, так как вы – знатное блюдо, повкусней дроздов, куропаток и рябчиков.
– Бог с тобой: нет цены этой дичи.
– Такой, как вы?
– Ну, это как для кого; но нас ведь не купишь.
– Значит, даром получишь.
– Получишь колотушек за наглость. Хочешь вымолотим, как скирду хлеба!
– Ой, не буду!
– Ну, то-то же, пойдём-ка лучше поедим.
Они повели его во двор трактира, и ему было так приятно видеть вокруг себя эти свежие лица. Вдруг с трубой и дудкой, с бубном и знаменем торжественно ввалилась во двор процессия братьев «Упитанной рожи», являвшихся весёлым и наглядным воплощением жирного названия их братства. Мужчины с недоумением смотрели на Уленшпигеля, но женщины объяснили им, что они нашли его на улице, и так как рожа его им показалась, как у их мужей и женихов, достаточно благодушной, они пригласили его принять участие в их торжестве.
Эти доводы были приняты мужчинами, и один из них сказал:
– Не хочешь ли совершить путешествие через соусы и жаркие?
– В сапогах-скороходах, – отвечал Уленшпигель.
Но по пути в зал, где приготовлено было пиршество, он увидел дюжину слепых, тащившихся по парижской дороге со стенаниями и жалобами на голод и жажду.
При виде их Уленшпигель решил про себя, что он должен сегодня накормить этих нищих царским ужином за счёт каноника из Уккле и в память панихид.
– Чувствуете запах жаркого? – крикнул он им. – Вот девять флоринов, идите закусите.
– Увы, за полмили чувствуем, – ответили они, – только без всякой надежды.
– Вы сытно поужинаете на девять флоринов, – сказал он.
Но в руки он им ничего не дал.
– Благослови тебя Господь, – ответили они.
И Уленшпигель усадил их вокруг маленького стола, между тем как за большим столом рассаживались братья «Упитанной рожи» со своими жёнами и дочерьми.
Слепые, гордые своими девятью флоринами, заказывали хозяину:
– Ты дашь нам лучшее, что у тебя есть из еды и питья.
Хозяин слышал разговоры о девяти флоринах и, убеждённый, что деньги лежат в их карманах, спросил, что угодно им заказать.
Они заговорили все разом:
– Дашь гороха с салом; дашь крошеного мясца – воловьего, телячьего, бараньего, куриного. Для кого сосиски-то – для собак, что ли?
– Кто, проходя, чуял запах колбас кровяных, колбас белых – и не схватил их за шиворот? Видал я их, видал, бедняга, не раз, когда глаза мои светили мне.
– А koekebakken, пирожки, поджаристые такие, в масле, в Андерлехте под Брюсселем их делают. Они поют на сковороде, такие сочные, хрустящие, и пить хотят, пить, пить. Яичницу с ветчиной мне или ветчину с яичницей, – ну, уж объеденье!..
– А где вы, небесные choesels[5] – такие гордые мясные великаны среди всяких почек, петушьих гребешков, телячьих желез, бычьих хвостиков, бараньих ножек; и приправа: лучок, перчик, мускат, гвоздика и три кружки белого вина для соуса… О, дождусь ли я тебя, божественная свиная колбаса, такая мягкая, что ты слова не вымолвишь, когда тебя пожирают! Прямым путём из «Царства объедал» приходишь ты из далёкой страны блаженных бездельников и сластён! Где вы, сухие листочки минувшей осени?..
– Мне баранины с бобами…
– Мне свиных ушей!..
– Мне сооруди чётки из куличков… «Отче наш» будут стрепета, а «Верую» – жирный каплун.
Трактирщик не шевельнулся, а затем сказал:
– Вы получите яичницу из шести десятков яиц; путеводными вехами для ваших ложек будут полсотни чёрных колбас, которые, дымясь, увенчают эту гору еды. На выпивку будет dobbel peterman[6] – целая река доброго пива.
У бедных слепых потекли слюнки изо рта, и они кричали:
– Давай скорей и гору, и вехи, и реку, давай!
И братья «Упитанной рожи», уже сидевшие с Уленшпигелем за столом, говорили между собой, что сегодня для слепых – день незримого пира и что бедные слепые потеряют поэтому половину удовольствия.
Когда яичница, украшенная гирляндами петрушки и укропа, была внесена в столовую хозяином и четырьмя поварами, слепые набросились на неё и стали было копаться в сковороде, но хозяин, хоть и не без труда, разделил всё и каждому положил на тарелку его долю.
Женщины расчувствовались, видя, как жадно, причмокивая, едят бедняки: страшно голодные, они глотали колбасы, точно устриц. Dobbel peterman низвергался в желудки, подобно водопаду, несущемуся с горной вершины.
Очистив свои тарелки, они снова потребовали печений, дроздов и фрикасе. Но трактирщик принёс им большую миску, полную бычьих, телячьих, бараньих костей, плававших в доброй подливе, и уж не делил на части.
Когда они, запустив руки по локти в соус, стали макать хлеб и вытаскивать оттуда только обглоданные рёбра да лопатки, а то и бычьи челюсти, каждый решил, что всё мясо захватил его сосед, и они стали бешено швырять костями друг другу в лицо.
Братья «Упитанной рожи», досыта нахохотавшись при виде этого зрелища, переложили часть своего угощения в миску слепых, и те, запуская руку вглубь, чтобы найти там кость для драки, вдруг стали вытаскивать то дрозда, то цыплёнка, а то и пару жаворонков. А женщины запрокидывали им головы назад и вливали в глотки полные кружки брюссельского вина. И слепые, шаря вокруг себя руками, чтобы найти, откуда льётся божественная влага, вдруг хватались за юбки и изо всех сил тащили их к себе. Но женщины ускользали.
Итак, слепые хохотали, пили и ели и пели песни. Некоторые, почуяв женщин, бегали за ними в любовном пылу по столовой, но озорницы дразнили их, прятались за своими мужчинами и кричали слепым: «Поцелуй меня!»
Они пытались целовать, но вместо женского лица натыкались на мужскую бороду, да ещё получали при этом шлепок.
Запевали братья «Упитанной рожи», а слепые подтягивали им. И весёлые бабёнки хохотали при виде их веселья.
Когда пришла пора кончать веселье, явился трактирщик.
– Ну, поели, попили, – сказал он, – платите-ка семь флоринов.
Каждый клялся, что деньги не у него, и отсылал хозяина к другому. И из-за этого вновь возникала свалка, в которой они старались ткнуть друг в друга ногой, кулаком, головой, но не попадали и били по воздуху, потому что окружающие, видя, куда они тычут, удерживали их. Удары сыпались впустую, только один нечаянно угостил оплеухой хозяина. Тот разъярился, стал их обыскивать, но нашёл у них у всех лишь старый нарамник, семь лиаров, три пуговицы от штанов и у каждого – чётки.
Он хотел было запереть слепых в свиной хлев и держать там на хлебе и воде, пока не получит с них за всё.
– Хочешь, – сказал Уленшпигель, – я поручусь за них?
– Хорошо, – ответил хозяин, – если кто-нибудь поручится за тебя.
Братья «Упитанной рожи» хотели поручиться за Уленшпигеля, но тот отклонил это и сказал:
– За меня поручится ваш каноник, я пойду к нему.
Памятуя о панихидах, он отправился к местному священнику и рассказал ему, что хозяин «Охотничьего рога», будучи одержим бесом, говорит только о слепых и свиньях: то ли свиньи съели слепых, то ли слепые съели свиней во всевозможных безбожных видах и блюдах. И во время таких припадков трактирщик разгромил всё своё заведение. Он просит священника прийти и освободить беднягу от наваждения.
Священник обещал прийти, но сказал, что сейчас не может: он подводил итог доходам по причту и старался при этом выгадать что-нибудь для себя.
Видя, что священнику теперь не до него, Уленшпигель сказал ему, что придёт с женой трактирщика, – пусть он поговорит с ней.
– Приходите вдвоём, – сказал священник.
Вернувшись от него, Уленшпигель сообщил трактирщику:
– Я говорил с каноником, он готов поручиться за слепых. Ты присмотри тут за ними, а хозяйка пусть пойдёт со мной к священнику, он подтвердит то, что я сказал.
– Пойди, жена, – сказал трактирщик.
Хозяйка пошла с Уленшпигелем к священнику, который всё ещё был погружён в расчёты, как бы выгадать что-нибудь в свою пользу. Когда она и Уленшпигель вошли к нему, он нетерпеливо махнул рукой, чтобы они ушли, и только сказал:
– Не беспокойся, через два-три дня я помогу твоему мужу.
И, вернувшись в трактир, Уленшпигель сказал себе: «Он уплатит эти семь флоринов, и это будет моя первая панихида».
И он удрал, и слепые за ним.
XXXVI
Встретив на следующий день на большой дороге толпу богомольцев, Уленшпигель пошёл с ними и узнал, что сегодня богомолье в Альзенберге.
Он видел бедных старух, шедших босиком по дороге задом наперёд: они пятились так потому, что подрядились за флорины искупить грехи нескольких знатных барынь. По обочинам дороги расположились богомольцы, сладко закусывая и попивая пиво под звуки дудок, скрипок и волынок. Запах вкусного соуса подымался к небу, как нежный фимиам.
Но были и другие богомольцы: грязные, голодные, увечные; они тоже шли задом, за что получали от церкви по шесть су.
Лысый человек с вытаращенными глазами и мрачным лицом прыгал за ними тоже задом наперёд, неустанно твердя «Отче наш».
Уленшпигель хотел узнать, чего ради это он подражает ракам, и, став перед плешивым, тоже запрыгал, как он. Дудки, рожки, скрипки, волынки, стенания богомольцев и прочая музыка сопровождали эту пляску.
– Чёртова перечница, – сказал Уленшпигель, – зачем ты бежишь таким способом? Чтоб вернее упасть?
Тот ничего не ответил и продолжал твердить «Отче наш».
– Хочешь, может быть, знать, сколько деревьев на дороге? Или ты и листья на них считаешь?
Человек, бормотавший в это время «Верую», махнул на него рукой, чтобы он помолчал.
– Или ты, – сказал Уленшпигель, продолжая прыгать пред ним, – или ты вдруг сошёл с ума, что так пятишься? Но кто хочет от дурака добиться разумного ответа, тот сам дурак. Не так ли, шелудивый господин?
Тот всё не отвечал, а Уленшпигель продолжал прыгать, так стуча при этом своими подошвами, что дорога гудела, как деревянный ящик.
– Или вы немой, господин почтеннейший?
– Ave Maria gratia plenae et benedictus fructus ventris tui Jesu[7].
– Оглохли, что ль? – сказал Уленшпигель. – Посмотрим. Говорят, глухие не слышат ни похвалы, ни брани. Ну, посмотрим, из чего твоя барабанная перепонка, из кожи или железа. Ты, фонарь без свечи, путник заблудший, ты думаешь, что похож на человека? Будет это тогда разве, когда людей станут делать из старых тряпок. Где это была видана такая жёлтая образина, такая башка облезлая? Разве на виселице! Висел уж, видно, когда-нибудь?
И Уленшпигель плясал, а человек яростно прыгал, всё бормоча свои молитвы.
– Может, ты понимаешь только господское наречие, так я поговорю с тобою просто по-фламандски. Если ты не обжора, то ты пьяница, если не пьяница, то у тебя запор, а если не запор, то понос. Если ты не распутник, то, стало быть, каплун; если есть где на свете умеренность, то не в бочке твоего пуза проживает она. И если на тысячу миллионов человек, обитающих на земле, приходится один рогоносец, то это должен быть ты.
При этих словах Уленшпигель упал на свой зад и вытянул ноги в воздух, ибо человечек вдруг так ударил его кулаком под нос, что у него в глазах искры засверкали. Потом, несмотря на своё брюхо, он бросился на Уленшпигеля, колотил его куда попало, и удары сыпались, как град, на худощавое тело Уленшпигеля. У него и палка из рук выпала.
– Пусть это будет тебе уроком не заговаривать насмерть порядочных людей, идущих на богомолье, – сказал человечек. – Ибо надо тебе знать, что я иду в Альзенберг, как принято, молить Божью Матерь о том, чтобы беременная жена моя выкинула ребёнка, зачатого в моём отсутствии. Чтобы добиться такой великой милости, надо, начиная с двадцатого шага от своего дома, плясать вплоть до первой ступеньки соборной лестницы, пятясь задом и не произнося ни слова. А теперь из-за тебя приходится мне всё начать сначала.
Уленшпигель успел поднять свою палку и сказал:
– Я научу тебя, негодяй, как пользоваться милостью Богородицы для того, чтобы убивать детей во чреве матери.
И он так отлупил злого рогоносца, что тот полумёртвый остался на дороге.
И дальше раздавались стенания богомольцев, звуки скрипок, дудок, рожков и волынок, и, как чистый фимиам, поднимался к небу запах жареного мяса.
XXXVII
Клаас, Сооткин и Неле сидели кружком у очага и разговаривали о странствующем богомольце.
– Девочка, – сказала Сооткин, – отчего ты не могла силой чар молодости удержать его навсегда у нас?
– Увы, – отвечала Неле, – не могла.
– Потому, – сказал Клаас, – что есть какие-то другие чары, заставляющие его вечно носиться с места на место, – если только не занята его глотка.
– Злой, противный! – вздохнула Неле.
– Злой – согласна, – сказала Сооткин, – но противный – нет. Может быть, сын мой Уленшпигель не какой-нибудь римский там или греческий красавец, но это ведь ещё не беда. Ибо у него – быстрые фландрские ноги, острые карие глаза, как у Франка из Брюгге, а нос и рот – точно их сделали две лисы, отлично постигшие искусства ваяния и лукавства.
– А кто, – спросил Клаас, – кто создал его праздные руки и ноги, которые слишком охотно устремляются за развлечениями?
– Их создало его не в меру юное сердце, – ответила Сооткин.
XXXVIII
Катлина простыми травами вылечила у Спильмана быка, свинью и трёх баранов. Но корову Яна Бэлуна ей не удалось вылечить. И он обвинил её в колдовстве. Он утверждал, что она околдовала корову, потому что она поглаживала её, когда давала ей снадобье, и разговаривала с ней, конечно, на бесовском наречии. Ибо честный христианин не умеет разговаривать с тварью бессловесной.