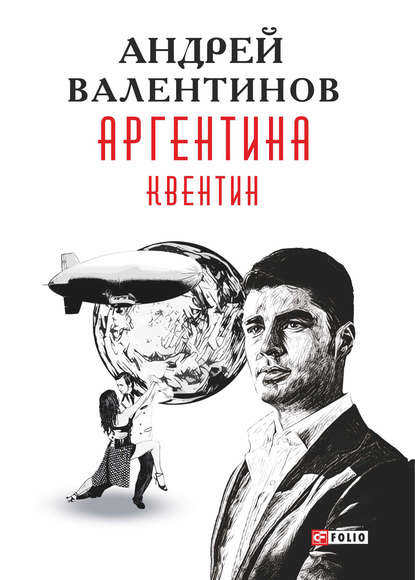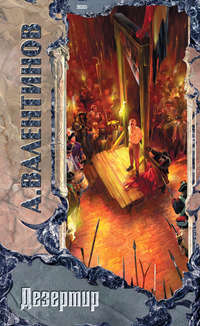Полная версия
Аргентина. Крабат
– Verfickte!..
– Да прекрати, уши вянут!
– Э-э-э… Gloria in excelsis Deo et in terra pax homínibus bonae voluntatis!..[20] Могу даже спеть, хочешь? Тони, а они там, на почте, ничего не перепутали? Триста марок?!
– Не перепутали. Имя и фамилия мои, адрес верный. А в скобочках, ради полной ясности: «Норванд».
– Где ты ясность видишь? «Ингрид фон Ашберг-Лаутеншлагер Бернсторф цу Андлау». Это сколько же благодетелей – двое или пятеро? Мой бог, триста марок! Мы же теперь двенадцатизубые кошки можем прикупить! Последний писк! И рюкзаки новые, и ботинки с шипами, и…[21]
– Двенадцатизубые брать не будем, тяжелые они, десятизубыми обойдемся. Главное – отпуск! Этот твой Нойнер за полсотни – устроит? Чтобы и подпись, и печать?
– Нойнер? За полсотни марок? Не то слово! Значит что, Тони, рвем когти?
– Понимаешь, на что идем? Начальство все равно нас раскусит. Или трибунал – или пропасть на Эйгере…
– Или отпуск в Судетах. Или – мы на Стене! Первые, самые первые!.. Решайся, Тони!.. «Мы разбивались в дым, и поднимались вновь, и каждый верил: так и надо жить!..»[22] Ну!..
6«Я-а ста-а-арый профе-е-ессор!»
Нет, не старый. И не профессор. Горбиться не надо, шаркать ногами – тоже. Доктор Эшке – не старый, просто дурной, как и вся ученая публика. Intelligent v galoshah.
Взгляд в зеркало… Плечи… Подбородок. Уже лучше.
Зафиксировали!
Где добрые немцы могут увидеть филолога-германиста? Не на улице же, не на рынке. Разве что в кино – и наверняка в комедии. Экает, бекает и несет чушь, причем пополам с непонятными словами. «Аффикс», «веляризация», «вокализация», «безаффиксный способ словообразования». И еще «гаплология». Хватит? Да за глаза!
Зафиксировали!
Зеркало осталось довольно, почтенный доктор – тоже. Теперь можно и прогуляться. Старомодный костюм размером на номер больше (левый карман отчего-то оттопырен), на носу – очки в роговой оправе, шляпа, тяжелая, черная… Зонтик, тоже черный и тоже изрядного веса…
Для чего зонтик, если на улице – ясный день, а на небе – ни облачка? А если тучи набегут? Как бы чего не вышло! Как это будет по-русски?
Вспомнил, повторил вслух, затем еще раз, поймав неуловимый звук «ch». Остался доволен – не забыл еще!
Guljaem!..
* * *Русский устный учился легко – эмигрантов из страшной Bol’shevizija в Шанхае можно было встретить всюду. Помог и родной сорбский. Пусть и не очень похож, но все-таки ближе, чем немецкое «кляйне-швайне». То, что в детстве они пели с мамой: «Slodka mlodost’, zlotyj chas!» Разве нужен переводчик? Тут «pesma», там – «песня».
Правда, по-русски «Domovina» – не «Родина», а нечто иное совсем… Не страшно, «домовину» и запомнить можно.
С чтением же начались проблемы. Сначала совершенно невозможная «kirilica», потом и того хуже: читать оказалось совершенно нечего. То, что печатали эмигранты в «Шанхайской заре», можно понять сразу, даже не глядя на заголовки. От своих русских приятелей он был наслышан о таинственном поэте по фамилии Pushkin, который, как выяснилось, в ответе за все, даже за не отданные вовремя пять юаней. Только где его, Пушкина, найти в Шанхае?
Вместо Пушкина ему был предложен Чехов. «Человек в футляре», очень смешной рассказ.
Рассказ он прочитал. Задумался. От Достоевского вежливо отказался.
Kak by chego ne vyshlo, gospoda!
Несчастный Беликов, над которым все издевались, а затем спустили с лестницы (обхохотаться можно!), преподавал греческий. Почтенный доктор Эшке, германист, охотно унаследовал его облик. Разве что галоши проигнорировал, хоть и не без сожаления. Дикие края, не поймут!
Отчего германист? Оттого, что документы Вольфанга Иоганна Эшке – самые что ни на есть настоящие. Грех упускать такой шанс.
«Я-а ста-а-арый профе-е-ессор!»
Коридор. Лестница. Вестибюль. Портье – и больше никого. Тихий отель, за то и выбран. Не в самом центре, конечно, зато лишних глаз поменьше.
Ну что, на улицу? К солнышку?
– Простите, вы доктор Эшке?
Девушка… Красивая… Очень красивая!
Ай!
* * *Если тебе (не придурку Эшке!) двадцать шесть, ты каждое утро отжимаешься сотню раз, аппетит имеешь отменный, а весь последний месяц женщины как-то скользили мимо, даже не задевая, то эта губастая, с огромными глазами…
Вдох! Вы-ы-ыдох!
– Простите, что? А-а! Да-да, фройляйн, ваш покорный слуга!.. Доктор Вольфанг Иоганн Эшке!..
…Платьице серенькое, скромное, из ближайшего магазина, и сумочка (серая) оттуда же, и туфли, и синий поясок. Зато прическа… И кольцо с синим камешком – пояску в цвет.
Ого!
Глазищи… Нет, не смотреть, ясно, что тоже синие. Лоб высокий, чуть не в половину лица, как у Мадонн на средневековых иконах…
Очки поправить. Взор потупить. В глаза-глазищи не смотреть.
Kak by chego ne vyshlo!
– Извините, доктор, что потревожила…
…Ничего, ничего!
– …Я много о вас слыхала, доктор. О ваших исследованиях, о ваших лекциях. Специально приехала из Бонна…
От таких слов филологу-германисту полагалось бы млеть. И заодно – смущаться, нерешительно покашливая и ковыряя носком тяжелого, не по сезону, ботинка ковровую дорожку. Но это – доктору.
…В вестибюле кроме нее и портье – никого. Это хорошо. А то, что стоит совсем рядом – худо. Здесь светло, значит, косметику на лице наверняка заметит. Скорее всего, уже заметила. Женщина!
Лекции и прочие встречи с любопытствующей публикой доктор Эшке старался проводить исключительно по вечерам, заранее озаботившись освещением. Чем меньше его, тем лучше. Скромнее надо быть, господа!
– …Если у вас, конечно, есть свободное время. Всего несколько вопросов.
Есть ли свободное время у доктора? Да сколько угодно! Все нужные дела сделаны еще утром. Вещи – в камеру хранения, таксисту – премию за хорошую скорость. Сначала туда, после обратно. А затем и парик можно надевать.
– Нет-нет, фройляйн, никакого кафе! Я, извините, на строгой диете. Все эти углеводы, они меня просто преследуют!.. Дальше по улице есть сквер, там, кажется, лавочки. Если не возражаете… И, простите великодушно, не расслышал, как вас, фройляйн, звать-величать?
…Не расслышал – потому что не представилась.
– Меня? Вероника… Вероника… Краузе.
Доктор Вольфанг Иоганн Эшке кивнул, вполне удовлетворенный. Шляпу приподнял, отдал поклон. Фамилию губастая придумать определенно забыла. Ай-яй-яй!
Сумочка же фройляйн Вероники опасливому доктору совершенно не понравилась. Какая-то слишком большая и по виду тяжелая. Косметичка столько не весит, а вот пистолет с парой запасных обойм…
* * *– …В этом нет ничего удивительного, фройляйн! Именно штудии по вопросам гаплологии архаических вариантов средненемецкого языка привели меня прямиком к пришельцам с иных планет. Да-да! То есть, конечно, к тем, кого мы с некоторой долей вероятности можем таковыми счесть…
Прокашляться. «Кхе-кхе-кхе!» И еще раз: «Кхе!» Промокнуть платочком губы…
Malo vas, obrazovannyh, davili!
– Я, видите ли, ученый, а потому всегда осторожен с выводами. Началось же все со знаменитой «Liber Chronicarum» Хартмана Шеделя, которую неучи-студенты вкупе с такими же неучами-репортерами именуют «Нюрнбергской хроникой». Она никакая не Нюрнбергская, но не в том суть…
Лавочка, тенечек, красивая губастая девушка рядом. Можно и слегка расслабиться, даже не слишком думая, о чем вещает зануда-германист. У запасливого доктора имелось на подобный случай несколько граммофонных пластинок. Поставил и пусть себе крутится-вертится, как загадочный «sharf goluboj» из русской песни[23].
– Я решил сравнить два варианта текста: латинский оригинал – и немецкий перевод Георга Альта. Классический образец средненемецкого языка, классический, я вам скажу!.. Взял фрагмент, посвященный правлению Генриха Птицелова. Там есть пассаж о судебном процессе по обвинению некоего золотых дел мастера из Гамбурга в сношениях с Врагом рода человеческого. Да-да! А еще имеется рисунок. Вы наверняка слыхали, фройляйн, что «Liber Chronicarum» великолепно иллюстрирована. Более шести сотен уникальных ксилографий!..
Губастая слушала, не перебивая. Внимала, взор свой синий потупив. Вроде бы все штатно…
…И с глазами-глазищами как-то утряслось. Клин клином вышибают. Фройляйн с наскоро придуманной фамилией («Краузе» – галантерейный магазин рядом с отелем!) хороша, слов нет. Но есть и другие, ничуть не менее глазастые. И губастые. И просто красивые.
А еще есть ОНА.
«У жены нет внешности!» – заметил как-то его шанхайский работодатель мистер Мото[24]. Пятнадцатилетний Марек («Не Марк, сэр! Марек!») поначалу весьма удивлялся. То есть как это, нет?! Потом понял. И сейчас, сидя на тенистой лавочке и не без удовольствия слушая скрип граммофонной пластинки…
– …Именно, именно, уважаемая фройляйн! Дьяволы, равно как прочие выходцы из Инферно, не спускаются с Небес в серебристом ковчеге. Неспроста король не решился осудить ювелира, но отписал папе Иоанну, прося совета. Художник же, по-моему, просто растерялся, не зная, как все сие изобразить…
…он еле заметно прикрыл глаза, представил себе яркий, пронизанный солнечными лучами витраж в храме при германском консульстве, что сразу за мостом через желтую Сучжоухэ, ЕЕ руку в белой перчатке, скромную коробочку с кольцами в синем бархате.
У жены нет внешности. ОНА просто есть.
Не твой шанс, губастая!
– …Подробности же, уважаемая фройляйн, я постараюсь изложить на сегодняшней лекции, равно и то, что в самое последнее время удалось узнать моим коллегам из Соединенных Штатов Америки. Рад буду вас видеть…
– Как получится, доктор. Честно говоря, сказками я и в детстве не очень увлекалась. Хотя рассказываете вы интересно… Особенно, когда кашлять забываете.
Оп-па!..
Повернулась резко, ударила синим взглядом.
– На первый вопрос вы ответили, доктор Эшке. Спасибо! Сейчас, если не возражаете, вопрос номер два. Вы это видели?
Щелк! Серая сумка послушно отворила свой зев. Пистолет?
Нет, всего лишь книжка.
* * *Стыдно сказать, но английский язык Марек Шадов толком так и не выучил. В школе штудировал французский, попав в Шанхай, взялся за местный диалект китайского. Потом пришлось освоить и кантонский, на котором изъяснялись в порту, а заодно и русский с итальянским. Хотел всерьез заняться японским, но мистер Мото отсоветовал, подарив на Рождество военный разговорник.
«Буки-о сутэро! Тэ-о агэро!..»[25]
Коротко и ясно. О чем еще с самураями болтать?
«Сутеро» и «агэро» Марек на всякий случай запомнил, добавив для коллекции еще и красивую фразу про негров: «Нигэру-то уцу-дзо!» Работодатель посоветовал отшлифовать произношение, но в целом остался доволен.
Мистер Мото был очень странным японцем. И не только потому, что упорно не желал именоваться «Мото-саном».
С английским же не заладилось. Ругаться выходило как-то само собой, газетные заголовки были тоже понятны, но дальше громоздилась Великая лингвистическая стена. Мистер Мото не видел в том особой беды. Для Шанхая вполне хватало портового «пиджина», не знать который просто стыдно. А чтобы Марек не расстраивался, работодатель пояснил, что «пиджин инглиш» – отнюдь не язык Шекспира, адаптированный для пингвинов. Название идет от устарелого «Beijin» – «Пекин». Если уж для столицы годится, то и для всей Поднебесной – в самый раз.
Доктор Эшке лихо перевел название («Реванш Капитана Астероида», ого!), подивился чудищам на обложке и без всякого удовольствия скользнул взглядом по первой странице, попытавшись продраться через строй малознакомых слов.
«Mighty… Могучий… могучие двигатели… giant… гигантского… titanic… Титанового? Титанического? Титанового планетобуса… rattled… грохотали в… black thick vacuum… в черном густом вакууме…»
Где грохотали?![26]
– И что? Фройляйн, но это же, извиняюсь… э-э-э… чтиво! Так называемая фан-та-сти-ка! Мы же с вами культурные люди!
Вероника Краузе («Фирма Краузе – иголки для швейных машинок!») взглянула виновато:
– Ох, простите, доктор! Но вы только что с таким старанием пересказали журнальную статью, которую я читала еще в школе. Да-да, про «Liber Chronicarum» Хартмана Шеделя и серебристый небесный ковчег Генриха Птицелова. Кстати, журнал был юмористический.
Почтенный доктор сглотнул… Приосанился.
– Ничего удивительного, фройляйн. В годы Империи при полном отсутствии свободы слова правду приходилось говорить с улыбкой. Эзопов язык! Да-да!.. Статью в «Кривом зеркале», которую вы имели в виду, написал не какой-то щелкоперишка, а известный…
Ее ладонь опустилась на книжную обложку. Остро блеснул синий камень.
– Знаю, доктор. История с Генрихом Птицеловом и в самом деле забавна, хотя гостей с других планет там конечно же не было. Но я хочу показать вам кое-что свежее.
Филолог-германист обиженно засопел:
– Простите, это? Эту… м-макулатуру?
– Прощаю! – взглянула без улыбки, убрала ладонь. – А теперь слушайте!..
* * *– Напрасно курите, Вероника! – заметил Марек Шадов, покосившись на серебряную сигаретницу, только что извлеченную из недр серой сумки. – Исхожу из собственного опыта. Мы с братом начали курить в шесть, бросили в восемь.
– В восемь часов? – улыбнулась она, щелкая зажигалкой. – Утра или вечера?
…В 1918-м, когда начали считать последние пфенниги.
– Конечно же вечера!
«Фройляйн» куда-то сгинула, исчез и кашель вместе с «да-да». Филолог-германист даже слегка помолодел. Вероника Краузе, однако, отнеслась к метаморфозе без малейшего удивления. Привыкла, видать, к чудесам.
– Не обращайте внимания, – немного помолчав, добавил он. – Это у меня хроническое – насчет никотина. Падчерица начала курить как раз в восемь. Не часов, Вероника, – лет. Два года веду разъяснительную работу без малейших шансов на успех.
Девушка повертела в руках сигарету, взглянула в сторону ближайшей урны.
– Нет, все-таки докурю… В восемь лет? Сочувствую, доктор. Я начала в четырнадцать. Сначала меня воспитывала мама, потом – тренер… Все понимаю, но когда прыгнешь затяжным с пяти километров, рука сама тянется к зажигалке. Не шнапсом же стресс снимать!.. Доктор! Надо все же разобраться. Итак, вы не читали книжки про Капитана Астероида. Охотно верю, чушь редкостная. Но почему в ваших лекциях говорится о том же самом? Инопланетная техника – откуда?
Доктор мотнул головой…
…Парик, осторожно!
– Вы уж спросите, так спросите! Из других книжек, вероятно. Сам я с инопланетянами пока не встречался. Но… Совпадений много?
– Давайте считать, доктор.
Филолог-германист послушно раскрыл ладонь. Первый палец…
* * *Инопланетянами он занялся совершенно случайно. Вначале просто ездил по делам, из города в город, превращаясь время от времени в чудаковатого доктора. Шанхай научил многому, в том числе и тому, что скрываться можно по-всякому. Или слиться с уличной толпой – или пройти сквозь нее на ходулях, звеня в бубен. Второе куда надежнее. Кто станет проверять документы у клоуна?
Рейх, увы, не Поднебесная – документы спрашивали постоянно. Особых подозрений блуждающий доктор пока не вызывал, но риск все же был, и немалый. Выход, однако, имелся: следовало записаться в клоуны уже официально, получить бумагу с печатью – и звенеть в бубен в полном соответствии с законом.
«Я-а ста-а-арый профе-е-ессор!»
Прежде всего требовалось узнать, где у здешних клоунов лежбище. Таковое обнаружилось в Баварии, в маленьком городке Вайшенфельд. Именовалось оно многословно: «Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков». Если же коротко, то просто «Старина».
«Аненербе»[27].
Марека (то есть, конечно, почтенного доктора) предупредили, чтобы он был осторожен. Клоуны оказались злого нрава – не из цирка, а из голливудского фильма ужасов.
…Один такой, с Лоном Чейни и Лореттой Янг, довелось увидеть в Шанхае, в новом кинотеатре на знаменитой «барной» улице Хэншаньлу.
«Laugh, Clown, Laugh!»[28]
Белый клоун-неудачник, изгнанный из родного бродячего цирка за пьянство, находит в придорожном кювете подкидыша, девочку-младенца. Плохо ли, хорошо ли, но растит ее, пока та не оборачивается прелестной юной девой. Тут и появляется некто в маске и черном плаще, возжелавший невинной крови ради своего беззаконного Владыки. Негодяй тоже циркач и тоже клоун.
Черный клоун.
Несчастную похищают, волокут на старое кладбище, дабы распять посреди горящей пентаграммы. Тот, что в плаще и маске (клоунской!), готовит каменный нож…
Само собой, протрезвевший приемный отец вкупе с мужественным юношей-циркачом поспевают вовремя. Злодея-клоуна толкают в центр пентаграммы, ночь исчезает в яркой вспышке пламени…
Фильм был старым, немым, и заключительное «Ха! Ха! Ха!» темного Владыки было запечатлено на титрах, как раз перед «зе эндом» и финальным таперским аккордом.
«Смейся, клоун, смейся!»
В Вайшенфельде Мареку стало не до смеха. Там собрались даже не клоуны, а деревенские сумасшедшие, которых для чего-то отловили по всей Германии. Беззаконный же их Владыка в миру именовался Генрихом Луйтпольдом Гиммлером, рейхсфюрером СС.
«Старина» доктору Эшке определенно не понравилась. Зато сам доктор очень понравился «Старине».
7– Простите, мадам! – пожилой усатый таксист оборачивается, вздыхает виновато. – Ничего нельзя поделать, мадам, придется обождать.
Женщина не отвечает, лишь устало опускает веки. Перелет до Парижа вымотал до самого донышка, забрав последние силы. Хотелось упасть на кровать, на дорогое гостиничное покрывало, прямо как есть, даже не снимая туфель, и спать, спать, спать… Номер-люкс в отеле был заказан заранее, из Орли она перезвонила, попросив к ее приезду наполнить ванну с мускусным ароматом…
Толпа – глухая многоглавая стена поперек всей улицы. Не объехать, даже не обойти, на соседних тоже люди, десятки, сотни, тысячи… Транспаранты, плакаты, затоптанные листовки по всему асфальту, тонкая цепочка растерянных полицейских-ажанов.
Париж сошел с ума…
– Придется обождать, мадам! – вновь вздыхает таксист. – Это стихия, мадам!
На усатом лице – нежданная улыбка.
– Зато мы им всем показали, мадам! Будут знать, фашисты!..
– Что показали? – не думая, переспрашивает она, но тут же спохватывается: – Простите, совершенно не разбираюсь в политике.
Улыбка сменяется искренним, до глубины зрачков, изумлением:
– Но как же, мадам! Мюнхен! Конференция, которую хотели собрать боши и этот макаронник Муссолини! Мы не пустили туда Леона Блюма[29], нечего к фашистам на поклон ездить. И чехи не поехали, отказались, старик Масарик отговорил их президента. Молодцы, проявили характер. Мерзавец Гитлер и англичанишки-овсянники остались ни с чем!.. Неужели вы не слышите, мадам?
Не слышит. Толпа глуха, но не лишена голоса, однако для нее все, что творится под горячим парижским солнцем, – всего лишь далекий невнятный шум.
…Что там на ближайшем транспаранте? «Да здравствует правительство Народного фронта!» Правительству-то ничего не сделается, о себе бы подумали…
– Франция снова едина, мадам! – чеканит усатый таксист. – Как в славном сентябре 1914-го! О, мадам, я был тогда мальчишкой, но такое вовек не забыть…
Умолкает, смотрит внимательно на пассажирку. Затем открывает дверцу, оглядывается.
– Может, вызвать врача, мадам? Здесь рядом бистро, там наверняка знают, где ближайший квартирует. «Скорой» – то не подъехать…
Она с трудом разлепляет непослушные губы:
– Врача? Нет, не надо. Бистро… Можно чашку кофе? Только покрепче.
Шофер что-то отвечает, но слова тонут в подступившем шуме. Веки становятся каменными, холодеет плечо. Рука мертвеца давит, прижимает к мягкой коже сиденья, не дает вздохнуть…
* * *– …Я тебя создал, сотворил из ничего, из праха. Кем ты была пятнадцать лет назад, когда мы встретились в Шанхае? Проституткой из портового борделя, которая ничего не умела и всего боялась!
– А я тебя убила. Мы квиты.
Губы не двигаются, и она отвечает беззвучно. Услышит!
– Но за что? Я научил тебя всему, что знал и умел. Ты – моя правая рука. Я не стал возражать, даже когда ты вышла замуж за этого сопляка! Пальцем не тронул – ни его, ни тебя, ни твоего ребенка.
Боль растекается по плечу, ледяные пальцы впиваются в плоть. Она находит в себе силы и рывком сбрасывает мертвую ладонь.
– Если бы ты посмел тронуть Гертруду, то не умер бы легко!.. А так – ничего личного, просто business, как говорят янки. Наши финансовые планы не совпали в некоторых пунктах. Если бы ты начал операцию сейчас, как задумывал, мы бы разорились. Я пыталась тебя переубедить…
Мертвецы тоже способны удивляться. Холодные пальцы скользят по щеке, касаются шеи. Женщина невольно вздрагивает.
– Выходит, я погиб из-за твоей глупости? Все рассчитано верно. Большая война начнется со дня на день, и наши деньги закрутятся…
– Никакой войны не будет, – резко перебивает она. – Надо выждать еще года три – и вкладывать, вкладывать, вкладывать! А заодно зарабатывать на том, что есть. Война кормит войну – ты сам меня учил…
Ответ звучит глухо, еле слышно, словно из несусветной дали.
– Ты хорошо выучилась, шлюха!
– А ты ничуть не поумнел, подонок!
Тишина. Молчание. Холод.
– Мадам! Мадам!.. Ваш кофе, самый-самый крепкий.
Она с трудом открывает глаза, но в первый миг видит не кофе, а букет фиалок. На стебельках – маленькие капельки-бриллианты.
– Не огорчайтесь, мадам! – усач-таксист улыбается. – Все будет хорошо!
Она улыбается в ответ, берет цветы.
– Спасибо!
Париж остается Парижем.
8– …Кошки, айсбайли, карабины, короткие и длинные ледорубы, две веревки по тридцать метров, репшнуры…
Чистка укороченной винтовки Mauser 98k[30] требует внимания, сосредоточенности и, естественно, полного молчания. Особенно если взор обер-фельдфебеля так и норовит просверлить твой затылок. К счастью, народу в оружейке много, и начальству поневоле приходится отвлекаться на иных желающих поболтать в непредусмотренное уставом время. Техника давно отработана: фельдфебель отвернулся – рядовой Тони Курц мигает…
– Две бензиновые горелки, к ним – литр бензина… Нет, лучше два. Пачка сухого спирта…
…Фельдфебель вновь весь внимание – Курц опять мигает, но уже два раза.
– На все про все – шестьдесят марок с хвостом. Билеты на поезд – еще по пятнадцать с носа.
Докладывает рядовой Андреас Хинтерштойсер – ясно, четко и по делу. Шепотом, но внятно. Бумажка с тезисами, вся в ружейном масле, под правой ладонью. Поглядел – и дальше излагает:
– …Еще бы палатку новую. Наша, сам знаешь, как после обстрела. Дорого, конечно…
Рядовой Тони Курц с сослуживцем не согласен, но от обсуждения временно уклоняется – мигает со значением. Два раза.
Губы Андреаса беззвучно произносят нечто, уставом совершенно не одобряемое, но делать нечего. Глаза округлить, плечи выпрямить… Затылку становится жарко.
…Ударник взводим, ставим флажок предохранителя вертикально. Затворную задержку – влево. Удерживаем, вынимаем затвор…
Буквочка «k» в названии тяжелой желязки – вовсе не «карабин», как думают штатские штафирки, а «Kurz» – «короткий». Рядовому Курцу – можно сказать, тезка.
– Хинтер-р-рштойсер-р-р! Почему так медленно?
…Подбородок вверх!
– Виноват, господин обер-фельдфебель! Стараюсь, чтобы тщательнее было!..
…Крышку магазинной коробки вместе с подающим механизмом отделяем… Тщательнее, еще тщательнее…
Курц (к счастью, не винтовка, а Тони) мигает. Magnus Dominus noster et magna virtus eius!..
– Про палатку, Андреас, забудь. Ты еще предложи в отеле поселиться!
Хинтерштойсер еле заметно пожимает плечами. Ладно! Хотя была, была такая мыслишка. Пусть и не в люксе…
– Нам «морковок» побольше надо, на Первом Ледовом поле их через шаг бить придется. И еще… Слыхал о «кошках» с передними зубьями? Которые Лорен Гривель выдумал? Итальянец?
Консерватор Хинтерштойсер пренебрежительно дергает носом. Итальянец, ха!
– Не кривись! – Курц суров, словно тезка «Kurz». – В Берне закажем. Если получится, сам сделаю, невелик труд.
Андреас не спорит. Пусть будут с зубьями! Не это его беспокоит.
– Тони, а кто приедет? Слыхал, что Бартоло Сандри и Марио Менти…
Сигнал!.. Два раза!
…Берем выколотку… Где она? Вот она… А дальше чего? Защелку крышки магазинной коробки – утопить, подать назад… Первая попытка…
– Хинтер-р-рштойсер-р-р! Даю вводную! Вр-р-раг злодейски похитил набор инстр-р-рументов. Ваши действия?
– Попытаюсь похитить инструменты взад, господин обер-фельдфебель! Если не получится, вместо выколотки использую патрон!.. Рядовой Хинтерштойсер неполную разборку закончил. Разрешите приступить к чистке?
…Сигнал! Слава богу!..
– Кроме Сандри и Менти будет еще пара итальянцев, не из «категории шесть». А еще французы из группы «Бло» – те, что скальные блоки освоили. Вроде бы сам Пьер Аллэн собирается. И австрийцы, этих шестеро, Вилли Ангерера и Эдгара Райнера ты знаешь… И никому трибунал не грозит, завидно! Андреас! Я сейчас прикинул… Если попадемся, не только нам достанется по полной, но и родичам всем, ближним, дальним. Давай еще подумаем, не будем спешить…