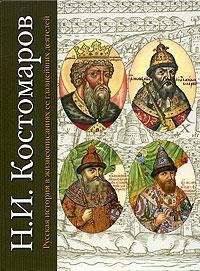Полная версия
Черниговка. Исторические портреты
– А нам би все служити таким добрим да милостивим господарям! – произнес наймит.
После обеда все стали развязнее и веселее. Кусиха так расходилась, что пощелкивала пальцами, да подскакивала, да несколько раз повторяла, что ей ради такого радостного случая хочется танцевать. Кус тотчас начал было ей вторить. Увлеклась даже понурая Варка Молявчиха и уже не стала, как делала прежде, упираться, когда Кус схватил ее за руку и приглашал танцевать с ним в паре. Кусиха, хлопая в ладоши и подпрыгивая, пела:
Кукуріку, півнику, на току,Чекай мене, дівочко, до року!Хіба ж би я розуму не мала,Щоб я тебе цілий рік чекала.Хіба ж би я з розуму ізійшла,Щоб я собі кращого не знайшла!Остановившись, она закричала:
– Да що се ми танцюєм без музики! – Потом, обратившись к наймиту, проговорила: – Явтуху! Серденько! Іди поклич Василя-скрипника да, коли можна, ще кого-небудь, хоч того дударя, як, пак, його…
– Юрка? – сказал наймит и хотел уходить. Но Кус остановил рукою его, дернувши за полу свитки, и говорил, обратившись к жене:
– Ні, ні, жінко Параско! Сього не можна.
– Чому не можна? – порывисто спрашивала Кусиха.
– А тому не можна, – сказал Кус, – що владика не велів. Нам треба його слухати. Не можна, не можна, не дозволю!
– Не дозволиш, так нехай по-твоєму буде, – сказала Кусиха, – ти на те господар, пан в своїм домі.
Успокоившись от внезапного порыва к веселости, вся семья уселась снова на лавках, немного поболтали, потом Молявчиха с дочерью встали, помолились к образам, поблагодарили хозяев за хлеб-соль и собрались домой. Молявчиха, кланяясь в пояс, просила Куса и Кусиху с дочкою к ней на обед на другой день. Кусы обещали. После ухода Молявчихи и Булавчихи Кус, чувствуя, что голова его от винных паров отяжелела, отправился в садик, подостлал под голову свою свиту, залег спать в курене, сложенном из ветвей под двумя яблонями. Пчелы, вылетая из расставленных по садику ульев, наводили на него сладкую дремоту своим жужжанием. Кусиха забралась отдыхать в чулане, откуда окно выходило только в сени: там летом было прохладно и безопасно от надоедливых мух. Ганна с наймичкою перемыли посуду после обеда, уставили ее на место, подмели хату. Окончивши работу, Ганна ушла в сад и, чтоб не мешать отцу, забилась в противоположный угол садика, села под развесистою липою и там предалась раздумью.
Недалеко от ней был тын, огораживавший садик с улицы, и чрез прогалину в этом тыне смотрели в сад четыре злые глаза, но Ганна их не замечала. Долго сидела таким образом Ганна. Пробегало в ее памяти все ее детство с той минуты, как она стала сознавать свое бытие на свете, ласки и приголубления родителей и близких, игры с девочками и мальчиками одного с нею возраста; приходили на память песни, которые она слышала и мимо своей воли перенимала; вспомнились первые, неясные ощущения потребности любви, выражавшиеся тем, что ей все вокруг становилось как-то грустным; вспомнила первую встречу с Молявкою, первый разговор с молодцем, о котором она и своим родителям не показала ни малейшего намека, первое его объяснение и ее взаимное признание, которое тогда бросило ее в краску, его сватовство, согласие родителей, беспредельную радость и довольство, охватившие ее душу, приготовление семьи к свадьбе… Все это вспоминать было так сладко и весело! Затем – ее венчание, тотчас за ним – разлука! Пришли ей на память ровестницы, уже вышедшие замуж, – на одной свадьбе она сама была в дружках, на другой в светилках; ее подруги, повенчавшись, были покрыты и стали жить с мужьями. А она? Обвенчалась – и Бог знает, покуда будет ходить девкою: не ее воля и не ее жениха! С нею не так, как с другими! Вдруг ей становилось страшно за свою будущность. Что-то темное, тесное, что-то не то колючее, не то жгучее ей представлялось. Ух! И она, пересиливая себя, вскочила и перекрестилась.
Солнце на западе стало склоняться к горе, и тени от строений и деревьев удлинялись; в разных местах Чернигова начал показываться над крышами хат дымок, дававший знать, что уже люди начинают топить печи для вечери. Ганна вспомнила, что надобно полить цветы в саду, повянувшие от дневного зноя, вышла из сада, вошла в сени, где увидала мать; она только что вышла из чулана и умывала себе заспанное лицо. Ганна отворила дверь в противоположную сторону через сени в рабочую избу, или поварню, взяла ведра, сказала, что пойдет по воду к Стрижню, и вышла со двора.
Ряд дворов, между которыми был двор Куса, выходил прямо к высокому берегу реки Стрижня. Против Кусова двора сход к реке был крут, но влево, двора через три, шел из города к реке подземный ход, прорытый в горе. Этот тайник устроен был для того, чтобы, на случай неприятельского нашествия, в городе не было недостатка в воде. Главный вход его находился далеко в средине города, но и близко от Кусова двора входила в него боковая лестница ступеней на десять вниз: ею можно было очутиться в тайнике. Этим путем обыкновенно ходили за водою девчата, жившие неподалеку в конце города: можно было таким образом подойти прямо к воде, не таскаясь с ведрами на гору. Туда направилась Ганна с своими ведрами. Но, идя со двора к тайнику, встретила она двух москалей и остановилась; она заметила, что это были те головы, что заглядывали в окно, когда она возвратилась из церкви; их тогда удалил от окна ее родитель. Ганну взяло раздумье. «Зачем они тут слоняются?» – думала она. Но москали, бросивши на нее взгляды, по-видимому равнодушные, пошли в противоположную сторону от тайника, мимо Кусова двора, нимало не оглядываясь на нее. «Нет, – подумала Ганна, – я испугалась напрасно. Это люди совестливые; они меня не зацепляют!»
Она смело пошла к спуску в тайник, сошла по лестнице и очутилась в темноте: только слабый свет проникал туда с той стороны, куда ей нужно было идти за водою. Вдруг послышались сзади торопливые шаги. Не успела Ганна решить, бежать ли ей вперед или назад, четыре сильные руки схватили Ганну сзади, коромысло с ведрами упало, она крикнула, но ее крик потерялся в тайнике. Ей завязали рот и глаза, она не в силах была более ни крикнуть, ни распознать, где она очутится. Ее потащили или, лучше сказать, понесли. Сама она с испугу не могла уже двигаться. Похитители унесли добычу свою к главному выходу из тайника, находящемуся, как сказано выше, в средине города.
V
– Где Ганна? – спрашивал Кус у своей жены уже в сумерках. – Где вона?
Кусиха не видала дочери и не знала, где она. Кусиха пошла в черную хату и спрашивала наймичку. Та сказала, что Ганна пошла за водою.
– Давно? – спросила Кусиха.
– Давненько уже, – сказала наймичка.
– Пора б уже їй вернуться, бо вже темніє надворі.
Кусиха стала недовольна дочерью. Никогда с нею подобного прежде не бывало. Как можно так запаздывать! Верно, думала, встретилась с подругами-девчатами и заболталась с ними, а может быть, какая из подруг к себе зазвала. Так подумала Кусиха, так сообщила и мужу. Но время шло, Ганна не возвращалась. Наступила уже совершенная темнота, ночь была темная, месяц был уже на ущербе, всходил поздно и тогда еще не показывался на небе. Родители тревожились не на шутку. Вышедши за ворота, отец и мать пошли в разные стороны, и оба кричали: «Ганно, Ганно!» Но их крик только повторялся какими-то насмешниками, собравшимися на игрище. Шалуны стали передразнивать кричавших: «Ганно, Ганно!», подделываясь под слышанные голоса, и себе кричали: «Ганно, Ганно!», хотя их не занимало, какую там это Ганну ищут.
Воротились родители домой. Кус бил себя руками о полы и машинально твердил: «Нема, нема!» Кусиха терзалась и вопила: «Доненько моя! Любонько моя! Де ти ділась? Де ти єси? Чи ти жива ще, чи, може, тебе уже на світі немає?»
Наймит и наймичка, из участия к заботе своих хозяев, взяли фонари и пошли к тайнику. Через несколько минут наймичка прибежала оттуда в испуге и, вбежавши в хату, завопила:
– Лишенько! Відра лежать в пролазі!
Вслед за нею наймит принес ведра и коромысло. Увидавши эти вещи, Кусиха испустила пронзительный крик, металась из стороны в сторону, не знала, бедная, куда бежать ей, что делать, схватилась за голову, сбила с себя очипок, начала рвать на себе волосы и кричала: «Доненько, доненько! пропала ти, пропала!»
– Утопла! – сказал Кус, но потом приложил палец ко лбу, что с ним случалось всегда, когда он о чем-нибудь трудном размышлял. – Ні, не утопла! – продолжал он. – Якби утопла, то відра й коромисло не лежали б далеко від води. Не утопла вона. Лихі люди її зайняли в тайнику. Може, убили! А за що? Кому вона що недобре удіяла?! Сказать би, звір її розірвав. Так як же звір туди забереться? Хіба які лиходії вхопили її та зґвалтовали, залестившись на те, що дуже хороша. Учинють над нею, що захочуть, а потім у воду вкинуть!
От таких догадок приходила Кусиха все больше и больше в ярость. Ей казалось, что именно так и есть, как говорит муж: злодеи сгубили ее дочь. И принялась она сыпать ругательства и проклятия на злодеев.
Наймичка, по приказанию хозяйки, известила Молявчиху о внезапной пропаже нареченной невестки. Молявчиха тотчас явилась к Кусихе. Обе старухи завели вопль, а Кус то корил баб за их крики и вопли, то вторил им сам и раздражал их скорбь своими жалобами и дурными догадками. Так провела ночь злополучная семья. Иногда, на мгновение, надежда сменяла отчаяние: услышат за двором шум, скрипнут где-нибудь ворота, залает собака… подступит к сердцу радость, слушают, не она ли… дожидаются. Ее нет! Мимолетная надежда опять сменяется отчаянием, а оно, после короткого и напрасного перерыва, делается еще более жгучим и гнетучим.
Стало наконец рассветать.
– Будем кричати да голосити, – з сього нічого не буде! – сказал Кус. – Піду до городового атамана, заявлю.
Нехай шукають Ганни; коли її нема на світі, то нехай хоч слід її знайдуть.
И, оставивши баб продолжать свои вопли, Кус пришел к городовому атаману.
Атаман, по прозвищу Беззубый, с удивлением узнал о внезапном исчезновении той новобрачной, красотою которой любовался вчера в церкви Св[ятого] Спаса со всем бывшим там народом. Первое, что предпринял атаман, был расспрос Кусу: не было ли у него с кем вражды и ссоры. Кус уверял, что не было. Тогда атаман, немного подумавши, решил послать десятских обходить все казацкие дворы и в городе и в пригородных селах и везде спрашивать, не видали ли где Ганны Кусивны и не сообщит ли кто догадки о том, кто бы мог ее схватить.
– Чи не вхопили її москалі? – заметил Кус. – Вчора, як повернулись з вінчання, примітив я, що коло мого двора все ходили якісь москалі й у вікна зазирали.
– Сходи до воєводи! – сказал городовой атаман. – Попрохай, щоб велів учинить розиск проміж своїми да й войтові написав, щоби по міщанських дворах те ж учинено було, а то ми тільки над козацькими дворами регіментуємо.
Кус отправился к воеводе.
– Что тебе, добрый человек? – сказал ласково Тимофей Васильевич, когда вошел в его дом Кус и низко поклонился.
Кус рассказал ему, что дочь его пропала без вести.
– Эх, добрый человек, добрый человек, – сказал Тимофей Васильевич. – Видно, что отец нежный! Всего один день, а он уж горячку запорол. Подожди, найдется! Да вот что, добрый ты человек, скажи по правде: она, может быть, у тебя гулящая и своевольная. Вестимо, коли одна дочь у отца, у матери, так избалована.
– Ні, пане воєводо, – сказал Кус, – вона у нас не те що не гуляща і не своєвільна, а така, що її ніколи не треба ні спинять, ні учить, вона і на улицю ніколи не ходила, де бува ігрище. Така слухняна, соромлива, ґречна… Спитайте усіх сусідів, усі в один голос нічого не вимовлять про неї, тільки хороше.
– Так, может быть, встретилась с какою-нибудь подругою, а та ее зазвала к себе в гости, пошли у них промеж себя тары да бары, ночь захватила, она побоялась идти домой и осталась ночевать в гостях, – говорил воевода.
– Я і сам так спершу думав, – сказал Кус, – тільки вже б їй пора була вернуться давно. Ніколи такого случаю не було з нею, пане воєводо.
– Так что же, что не бывало! Теперь в первый раз такой случай пришел! Я рад тебе, добрый человек, во всем помочь, написать велю войту, чтоб учинил розыск о ней по всем мещанским дворам, а сам я пошлю своих стрельцов по тем дворам, где есть становища наших царских ратных людей. Только я уверен, добрый человек, что не успеют произвести розыск по мещанским дворам, как твоя дочь к тебе явится. А я твою дочь вчера в церкви видал мельком, как она венчалась. Я с паном полковником там был. Славный молодец твой зять. И она красавица. Парочка нарядная. Полковник мне сказал, что жених тотчас после венца пойдет с казаками в поход. Мне так стало жалко, что я просил полковника, нельзя ли ради новоженного дела оставить его. Что же, мое дело сторона! Нам, воеводам, от великого государя не велено вступаться в казацкие дела. Будь покоен, добрый человек! Дочь твоя найдется, сама к тебе воротится, а не придет сама, так мы ее найдем, и я сам, самолично, приведу ее к тебе. На том даю тебе мое крепкое слово.
Кус поблагодарил воеводу за доброе слово и ушел.
Прошел день, прошел другой, третий, – Ганна не возвращалась. Мать до того заметалась, что стала как безумная, и в речах ее мало было склада. От тоски напало на нее такое истомление, что пройдет несколько саженей и садится либо совсем упадет на землю. Молявчиха первые дни очень сердечно принимала участие в беде, постигшей мать ее невестки, но на четвертый между двумя бабами начались пререкания. Кусиха в своих сетованиях о дочери высказалась, между прочим, что «на лиху годину» повенчалась она с Молявкою, а Молявчиха оскорбилась такою выходкою и, с своей стороны, ядовито заметила, что Бог знает, где она делась, может быть, у ней на уме заранее что-нибудь затеяно было, а может быть, ее родители знают, где их дочь теперь, знают, да не скажут!
– Не такого зятя нам було б добути, а другого кого-небудь, то, може б, дочка наша ціла була! – сказала Кусиха.
– Не такого подружжя треба б моєму синові, а мені невістки! – произнесла Молявчиха.
Мать Молявки-Многопеняжного ставила Кусихе на вид, что Молявка родом значительнее каких-нибудь Кусов и Кусы должны бы себе за честь считать, что роднятся с Молявками.
Кусиха упрекала, что Молявки хотят загарбать Кусово достояние и для этого входят с ним в свойство: Кусы и Молявки хоть и одинаково казаки, но Кусы старинные от прадедов и прапрадедов черниговские казаки, а Молявки так себе – какие-то прибыши.
С таких едких замечаний начались взаимные ругательства, а наконец и проклятия.
– А щоб твоя дочка не знайшлася, а так би скрізь землю пішла! Негодниця вона! – сказала Молявчиха.
– А щоб твій син з войни не вернувся! – крикнула Кусиха.
Спор дошел до того, что Молявчиха плюнула на Кусиху, а Кусиха плюнула на Молявчиху. Молявчиха сказала, что с этих пор нога ее не будет в Кусихиной хате, а Кусиха сказала, что было бы лучше всего, когда бы и прежде ни Молявчиха, ни сын ее не переступали их порога.
Добродушный Кус хотел было умиротворить разъярившихся баб, но потом рукою махнул и произнес:
– Баби яко баби: волос довгий, а розум короткий.
С той поры Молявчиха не посещала Кусихи, а Кусиха не приходила к Молявчихе. Но приходили к Кусихе разные соседки; им рассказывала Кусиха о своей размолвке с Молявчихою, а соседки, слушая это, с своей стороны подстрекали их к ссоре: нашлись такие, что начали переносить Кусихе, что говорит о ней Молявчиха, а Молявчихе – что говорит о ней Кусиха.
Окончился Петров пост. Ганна не возвращалась. Несколько раз еще ходил Кус и к городовому атаману, и к войту, и к воеводе. Никто не порадовал его открытием следов пропавшей дочери. Атаман даже заметил, что Кус в своем нетерпении начинает надоедать своими жалобами на свою долю, что у него, атамана, без его дела много других дел. Войт сказал, что употребил уже все меры, какие у него были в распоряжении, и не его вина, что ничего не открыл. При этом войт заметил Кусу: «Было б не пущать дочки, то б и не пропала!» Любезнее всех принимал Куса воевода, всегда жалел о нем, делая вместе с ним разные предположения насчет пропажи его дочери, и утешал всеми возможными способами, даже говорил, что если бы случилось так, что его дочери уже не было на этом свете, то все-таки доброму человеку остается то утешение, что он увидится с нею на том свете. При этом Тимофей Васильевич благочестиво вздохнул.
Между тем по поводу исчезновения Кусивны стали расходиться выдумки, самые нелепые, безобразные, отчасти легендарного свойства, но оскорбительные для семейства Кусов. Все это вымышлялось бабами из тех дворов, которые были небогаты: там был повод завидовать состоянию Кусов. Таким образом болтали, что Кус нажил свое состояние (которое завистникам представлялось в преувеличенном размере) тем, что знался с бесами: еще будучи парубком, при помощи бесов нашел он заклятый клад; никто не мог добыть этого клада, и за то, чтоб его вырыть, обещал Кус бесу дитя свое, как у него будут дети. После того Кус женился, пошли у него дети, но все умирали в малом возрасте, одна только дочь доросла до совершенных лет, и в тот самый день, как она вышла замуж и повенчалась, бесы потребовали исполнения обещания, данного отцом в то время, как они ему помогли вырыть клад. Ганну Кусивну схватили не люди, а бесы, и уж теперь найти ее никак нельзя, потому что она – в пекле, и дорого, рассуждали, обошелся Кусу добытый клад; теперь бы он рад был в десять раз дать против того, сколько тогда получил, да уж нельзя! Другие говорили, что Кусиха – ведьма, умеет перевертываться то свиньею, то клубком, то копною, то жабою, то летучею мышью и научила такой же ведьмовской науке свою дочь, но этой дочери не следовало принимать святого закона, а она, как повенчалась, и святой закон приняла, вот за то, рассердившись, бесы ее ухватили. Были еще и такие толки: полюбила Кусивна Молявку и причаровала его к себе с бесовскою помощью. Молявка без ней жить на свете не мог, только ей не следовало вступать с ним в закон, а как она повенчалась – бесы ее за то ухватили: живи с ним по-нашему, а не по-божьему! Сочинили еще и вот что: продал Кус свою дочку монаху, а для вида выдал ее замуж за Молявку затем, чтоб, как Молявка уйдет на войну, он дочку свою передаст монаху в пользование, а слух пустит в народе, будто его дочку утащил кто-то неведомо куда! И еще было немало подобных вымыслов, один другого безобразнее. Кумушки обо всех ходивших толках сообщали Кусихе, уверяли ее, что это все выдумала Молявчиха, и тем раздражили Кусиху. Она так увлеклась злобою против Молявчихи, что даже печаль о погибшей без вести дочери уступала в ее сердце место этой злобе. Молявчиха, со своей стороны, поджигаемая такими же кумушками, выражала благодарение небу, что сын ее нежданным путем избавился от недостойной связи, и молила Бога о благополучном его возвращении с войны для того, чтобы он поскорее мог сыскать себе другую подругу жизни.
Прошел июль. Прошли Спасовки. Вот уж и люди сельские отработались в поле. Уже осенние утренние холода стали предвещать наступление осенней слякоти, а за нею стужи и снегов. Ганны все не было, и никто не мог сказать, где она: и след ее простыл.
VI
Под городом Чигирином, на широкой равнине, по которой змеится извилистая река Тясмин, раскинулся стан казацкий, разбросались купы полотняных шатров по полкам, высланным гетманом. Между этими шатрами пестреют палатки начальных лиц, их пологи из цветной ткани, а на верхах их пуки павлиньих перьев. Далее от казацкого стана над рекою Янчаркою расположен стан царских великорусских войск под начальством Григория Ивановича Косагова.
Это отряды, которые выслали к Чигирину гетман Самойлович и боярин Ромодановский, удержавши остальные войска свои в стане под Вороновкою.
Начальником или наказным гетманом над высланными казаками назначен генеральный бунчужный Леонтий Полуботок, тогда временно занимавший уряд переяславского полковника. Собрались у него в шатре полковники: черниговский, гадяцкий и миргородский. Наказной гетман объявил, что Григорий Иванович Косагов посылает к Дорошенку увещательную грамоту; и казаки должны послать такую ж от своего гетмана.
Полуботок громко прочитал составленную генеральным писарем грамоту и, передавая ее Борковскому, сказал:
– Василій Кашперович! Вибери кого-небудь послати з сим листом. Значного урядового не посилай. Годі чествовати сього пройдисвіта! Пошли до його якого-небудь рядовика, такого тільки, щоб потрапив придивиться, що там діється у Чигирині.
– У мене якраз такий знайдеться, – отвечал Борковский и ушел с грамотою в свою ставку, отстоявшую от Полуботковой сажен на пятьдесят.
Оставшиеся в шатре у Полуботка стали пить и закусывать, а Борковский, пришедши в свой шатер, велел позвать Булавку и сказал:
– Пане сотнику! Посилай швагра свого Молявку з оцим листом до Дорошенка і скажи, щоб він, будучи у Чигирині, що можна там виглядів і вислухав. Він не дурень, зрозуміє.
Булавка, передавая шурину эту грамоту, говорил:
– Оце тобі, мій голубе, значне полєценє. Тепер час тобі і случай показати себе усім людям і панству. Клич з собою суремщика.
Молявка вместе с трубачом отправился к окраине нижнего города Чигирина, отстоявшего на добрую версту от казацкого стана. Собственно, это и был город в смысле людского поселения, так как то, что называлось верхним городом, был только замок, или цитадель. Нижний город был обведен земляным валом, по верху которого шла толстая бревенчатая стена, а под валом, на наружной стороне, прокопан был ров в три сажени в ширину и глубину. Молявка обвязал себе голову белым платком, трубач изо всей силы затрубил. Караульные казаки с башни, построенной над воротами, окликали подходивших к городу, а Молявка, вместо ответа, наткнул на саблю свою шапку с повязанным на ней платком и махал ею. Караульные спустили поднятый вверх цепями у ворот мост через ров и отворили калитку, проделанную в тяжелых воротах. Молявка вместе с трубачом вошел в город. Его сразу окружила толпа. Спрашивали – зачем, к кому, с чем. Молявка сказал, что с «листом» к гетману.
– А хоч би він швидше сам зрікся од того нещасливого гетьмановання! – послышалось в толпе.
– Чого-то вже йому тепер упираться? Сам же, збираючи громаду, каже, що вірним царським слугівцем хоче зоставатись, так чого ж коли цар велить їхать і здавать своє гетьманство, так уже б і робив, як цар йому каже. Так ні! Каже: підождемо. Турок нехай, каже, москаля ще полякає, так москаль здатніш буде на умову. А щоб його! Чого там ще дожидати? Вже уся Україна до вас на слободи утекла, а в Чигирині тільки що тижнів на два стане чим жить. Тоді всі так юрбою і сипнуть до вас. Не пухнуть же всім з голоду!
Такие речи услышал тогда Молявка от народа, едва только вошел.
– Де він? – спрашивал Молявка. – Либонь, там, на горі? Ведіть мене до його.
Он указал на гору, откуда белелись стены недавно оштукатуренного дома гетманского, стоявшего посреди замка.
– Ні, там його нема, – был ответ. – Он чуєш: музи́ка гра. Се він розважує своє горе, чуючи, що приходить кінець. Накликав музик: скрипки, кобзи, бандури, сопілки, сурми, бубни, ходить по городу із шинка в шинок, удаючи, ніби він уже не гетьман, а простий козарлюга-запорожець. І старшини з ним, і тесть його Яненко й інші. Ідуть да співають і скачуть.
– Еге! – заметил кто-то. – Як чує, що над шиєю гостре залізо висить, так який став до всіх доступний, простий да приязний, а перше пишався!
– Тепер що хоч йому кажи, так не сердиться, хоч і не послухає ради, а не сердитиметься за неї; перше, скажи лишень йому таке, що проти шерсті, – так опісля сам стережися: присікається, неначе за що інше, да у дибу заб’є, а то і голову стяти розкаже, – заметил Чигиринский сотник Блоха, стоявший здесь же, между прочими.
До ушей Молявки долетали звуки музыки и все становились ближе и ближе. Прошедши несколько десятков шагов далее, до поворота в другую улицу, он наткнулся на шествие, выступавшее из этой поперечной улицы. Бежала пестрая толпа народа обоего пола и разных возрастов, начиная от седобородых дедов и сгорбленных баб и кончая детишками в одних рубашонках; в бархатном, малинового цвета кунтуше, в красных сапогах и в заломленной набекрень шапке с бриллиантовым пером, гетман Дорошенко отплясывал тропака; обок его то же делали писарь Вуехович, обозный Бережецкий, судья Уласенко, гетманский тесть Павло Яненко – все одетые в праздничные кунтуши разных цветов – кто в коричневом, кто в ярко-красном, кто в зеленом. Если бы внимательно вглядеться в их лица и движения, то можно было сразу уразуметь, что они более по принуждению, чем по добровольному влечению делали это. За плясунами шли музыканты. Вельможные гуляки, притопывая ногами, хором пели:
Паутина по дорозі повилась, повилась,А дівчина з козаком понялась, понялась.– Не сю! – крикнул вдруг Дорошенко. – А тую, що грали, як з замку виходили.
Музыканты остановились и потом заиграли на другой голос. Дорошенко затянул:
Нікому я не дивуюсь, як сам я собі,Пройшли мої літа з світа, як лист по воді,А вже мої стежки-дорожки позаростали,А вже мої вороні коні поіз’їжджали,А вже моє золоте сідельце поламалося,А вже моя родинонька одцуралася.При звуках этой песни приостановилась пляска. Молявка думал: не подойти ли и подать «лист» Дорошенку, но не решился, соображая, что, чего доброго, он рассердится и почтет за издевку над собою. Но гетман со старшинами, сделавши несколько шагов и припевая песню, пошли прямо к шинку, где на крыльце стоял шинкарь, празднично одетый: видно было, что и шинкарь приготовился к посещению его шинка высокими гостями.