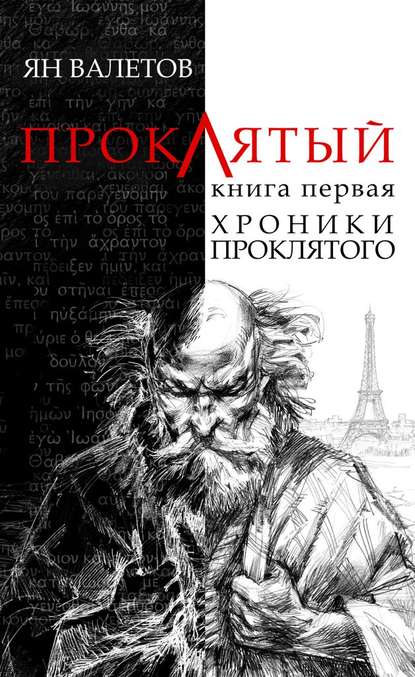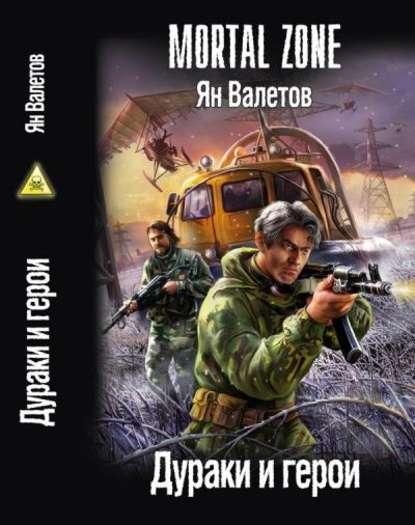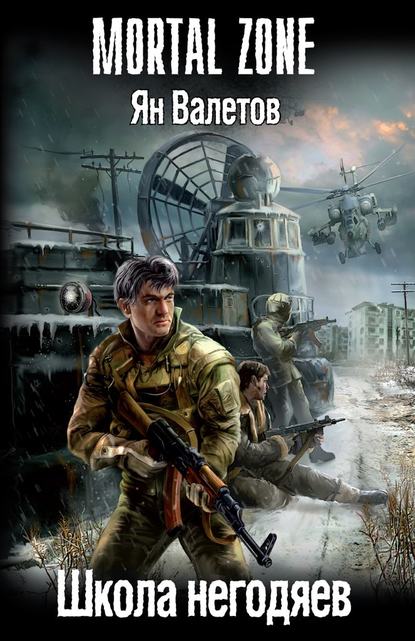Полная версия
1917, или Дни отчаяния
– Лишенный всего состояния, выброшенный умирать подальше от родины, я за пару лет стал одним из уважаемых банкиров Европы, заплатил по чужим счетам и снова поднялся вверх. Разве это не поцелуй удачи? Я жил на полной скорости, Сергей Александрович. Я за свои годы сделал и пережил столько, что на десять жизней хватит! Да – я игрок, да – я любитель женщин! И пил я часто не зная меры, и играл рискованно… Но никто и никогда не расскажет вам, что я сдался на милость судьбе! Четырнадцатый год был очень тяжелым для меня. Я до сих пор вспоминаю его с дрожью…
1914 год. Украина. Имение «Вольфино». Весна
Управляющий встречает Мишеля на пороге родительской усадьбы.
Украина. Бахмут, соляные копи
Катится по дороге коляска – в ней Терещенко и другой управляющий.
Терещенко инспектирует соляные шахты.
Едет вниз клеть.
Михаил с сотрудниками в большом форменном картузе и плаще проходит по огромной соляной пещере.
Украина. Имение Федора Терещенко «Червоное»
Михаил и Федор Федорович обнимаются у мастерских. Дорик перемазан в саже и масле. Терещенко смеется. Брат ведет его по своим владениям – по кузнице, по механическому и сборочному цехам, по пылающей жаром литейке, по моторной мастерской…
Вечер.
Братья сидят в той самой гостиной у камина с бокалами коньяка в руках. Федор Федорович рассказывает что-то кузену, оживленно жестикулируя. На стенах гостиной – фотографии самолетов и детей Дорика. На специальной полке модель «Ильи Муромца» – самого большого самолета в мире на тот момент, построенного на деньги Терещенко. Множество самых разных фото, но нигде нет изображения жены.
– Думаю, что самая удачная модель у меня, – говорит Федор Федорович, смакуя выпивку. – Это дешевле, чем покупать «фарманы». Мне достаточно двигателя, а планер, шасси и все рулевое мы сделаем прямо здесь, в Червоном. Ты сам видел, с моим оборудованием и людьми – это раз плюнуть! Армия выиграет вполовину!
– Я впечатлен, – Терещенко качает головой. – И сколько машин ты можешь делать за месяц?
– Сейчас? Думаю, три. Если получу заказ и заранее куплю все нужное, найму дополнительно людей… До десятка. Мы разрабатываем новые модели, более скоростные, с улучшенным управлением, для них понадобятся мощные моторы 45–50 сил как минимум, но быстрее в небе никого не будет! Но делать это без военного заказа… бессмысленно. Для летных школ достаточно и нескольких штук в год. А вот для армии, для войны… Скажи мне, Мишель, – Дорик прикуривает сигару, – ты доже думаешь, что война неизбежна?
– В последнее время все говорят об этом…
– О да… – смеется Дорик. – Об этом даже в нашем киевском болоте говорят. А ты что думаешь?
– Думаю, что такое может случиться. Когда все говорят о войне, сама война – это только вопрос времени.
– Слишком много нерешенных вопросов, – говорит Федор Федорович с грустью.
– Я бы сказал – слишком много противоречий в интересах, – Терещенко тоже раскуривает сигару и выпускает сизую струю густого дыма. – И амбиций. Никто не хочет договариваться. И прежде всего – мы. Все ждут выгоды от конфликта.
– И, что любопытно, мне тоже выгодна война, – кивает Дорик. – Война – это потребность в самолетах. А самолеты – это я. Вот такие дела, кузен дорогой…
Открывается дверь. На пороге темноволосая, стройная женщина лет двадцати пяти. Строгое платье, ровная спина, поднятый подбородок. Глаза в глаза, взгляд не отводит, смотрит колюче, словно ждет чего-то неприятного, но при этом улыбается.
– Давно хотел вас познакомить!
Дорик встает, Мишель тоже.
– Это Любовь Александровна Галанчикова, Миша. Мой летчик-испытатель.
– Весьма рад, Любовь Александровна.
– Наслышана, Михаил Иванович.
Терещенко целует Галанчиковой руку.
Дорик подвигает к камину третье кресло. Заботливо помогает женщине сесть, поправляет шаль, наброшенную на плечи.
В его движениях сквозит нежность. Их руки соприкасаются на долю секунды, и Федор Федорович садится на место.
Терещенко смотрит на каминную доску, на фотографии, на модель «Ильи Муромца» и переводит взгляд на кузена. Тот виновато улыбается и едва заметно разводит руками – мол, что поделаешь…
1914 год. Украина. Киев
Терещенко на заседании попечительского совета городской управы.
Он за столом с супругами Ханенко.
Он в ложе Киевской оперы вместе с Дориком.
Консерватория. После выступления оркестра вышедший на сцену городской чиновник говорит о вкладе Михаила Ивановича и его семьи в строительство Консерватории.
Терещенко стоит в ложе, публика аплодирует.
Поздняя весна 1914 года. Москва
Вот уже автомобиль с Терещенко за рулем едет по улицам Москвы. Михаил входит в резиденцию генерал-губернатора. Деловой прием в разгаре – Терещенко, Гучков и еще один невысокий человек с бородой, во внешности которого едва заметно прослеживаются восточные корни, беседуют, стоя чуть в стороне.
Конец весны 1914 года. Петербург. Издательство «Сирин»
Терещенко с сестрами в помещении издательства «Сирин». Вместе с ними Белый и Блок. В комнате полно людей богемной наружности – здесь весь литературный цвет столицы: поэты с подругами, поэтессы с друзьями, пьяная литературная братия создает самую настоящую салонную обстановку. В центре действа не Михаил, хотя у него в руках только что напечатанные тетради с романом Белого «Петербург» – в центре Пелагея с Елизаветой. Весь стол завален сигнальными экземплярами. Везде шампанское – полные, пустые и полупустые бутылки. В углу двое молодых поэтов с платками на цыплячьих шеях хлещут из горлышка коньяк.
Елизавета и Пелагея счастливы, глядя на все это непотребство – у них сверкают глаза, разрумянились щеки. С ними флиртуют, на них смотрят восхищенными глазами! Терещенко курит, сидя на подоконнике под открытой форточкой. Курит и улыбается в усы.
Рядом с Пелагеей крутится Саша Блок.
Пелагея выходит в дамскую комнату, бросив на Блока откровенный взгляд. Блок было спешит за ней, но в коридоре его останавливает Терещенко.
– Саша, погоди…
Блок смущен, словно его поймали на месте преступления.
– Давай-ка сначала я… – говорит Терещенко мягко. – Деликатная ситуация, не так ли? Подожди в комнате. Выпей пока. Я скоро.
В туалетной комнате полумрак, Терещенко оглядывается, входит внутрь и запирает за собой дверь.
– Пелагея…
Слышно, как она дышит, но ни слова в ответ.
– Ты взрослая женщина, и я не имею право вмешиваться в твои дела.
Терещенко некоторое время молчит, обдумывая, что и как правильнее сказать.
– Кто угодно, – наконец-то произносит он. – Кто угодно, но только не он.
– Потому что он твой друг? – спрашивает сестра.
Ее скрывает густая тень, голос у нее напряженный, злой.
– Нет.
– Потому, что он женат?
– Нет, сестрица. Не потому.
– Объяснись.
– Есть отношения, которые никуда не ведут, – начинает Михаил. – А есть, которые ведут в никуда. Я хорошо знаю Сашу. Он хороший, он талантливый, но отношения с женщинами – это не его конек. У него все так сложно, что нельзя не запутаться. Если ты хочешь остаться с ним друзьями, не приближай его.
– Ты так похож на мать… – говорит Пелагея. – Ты тоже думаешь, что имеешь право давать советы и руководить чужими жизнями… Вы же все вокруг калечите. Ну, она-то неспособна ничего понять про чувства, а ты? Ты зачем это делаешь?
– Я не руковожу твоей жизнью, сестрица…
– Нельзя трогать чужое, Мишель. Со своей жизнью разберись. Я жить хочу, я любить хочу. Мне скоро тридцать, понимаешь? Что мне, сидеть и ждать, пока вы с маман выберете мне мужа или посоветуете любовника? Может, хватит мне влажные сны смотреть? Может, я сама справлюсь?
– Ты взрослый человек, Пелагея…
– Тогда выйди вон, Мишель и дай мне умыть лицо…
– Ты плачешь? Прости…
– Выйди вон, наконец… – говорит она звенящим от напряжения голосом. – И больше никогда… Слышишь, никогда, не давай мне советов по этому поводу.
Терещенко выходит и закрывает за собой дверь.
В коридоре накурено. Возле вешалки целуются два молодых литератора в шейных платках. Они пьяны настолько, что не замечают прошедшего мимо Михаила.
Заседание Государственной Думы
Терещенко слушает выступающего. На его коленях газета с броским заголовком «Война с Германией неизбежна!».
Он разворачивает газету, и становится виден второй заголовок.
«Только один вопрос: КОГДА?».
28 июня 1914 года. Сараево
По набережной Аппель едет кортеж автомобилей.
В середине кортежа авто эрцгерцога Франца Фердинанда. Эрцгерцог в небесно-голубом мундире сидит рядом с женой Софией на заднем сиденье. Рядом с ними губернатор Пиотрек, на подножке офицер, обеспечивающий безопасность. За рулем военный в чине полковника. Машины едут быстро. На лице Франца Фердинанда озабоченность. София держит мужа за руку. Она старается выглядеть спокойной, но бледность и взгляд выдают напряжение.
– Не волнуйся, любовь моя, – говорит эрцгерцог, склонившись к супруге. – Не думаю, что Сараево набит террористами.
Водитель снижает скорость, чтобы сделать правый поворот – на мост. Авто трясет на брусчатке.
Когда машины начинают ехать медленнее, от мясной лавки отходит человек. Он невысок, плохо одет и молод – не больше 20 лет от роду. Лицо у него невыразительное, смуглая кожа нечиста, под носом небольшие редковатые усишки. Стоптанные башмаки шлепают по гладкому булыжнику, одну руку он держит в кармане дурно скроенного, явно с чужого плеча, пиджака.
Первая машина, чуть подпрыгивая на рессорах, сворачивает на Латинский мост. Плохо одетый юноша чуть ускоряет ход. Вдоль тротуара стоит немало зевак, пришедших поглазеть на эрцгерцога со свитой, но юноша легко протискивается между стоящей публикой и оказывается в метре от проезжающего авто Франца Фердинанда.
Доля секунды – и в руке юноши вороненный пистолет. Офицер охраны, стоящий на подножке, замечает это слишком поздно – он тянется к оружию нападающего, надеясь оттолкнуть ствол в сторону, но машина все еще в движении, и офицер промахивается. Зато плохо одетый террорист – нет. Выстрелы звучат несерьезно, словно кто-то сломал две толстые ветки. Пуля пробивает Фердинанду шею, он зажимает рану ладонью, но кровь бьет из-под пальцев, пачкая лазурь мундира. Вторая пуля попадает в живот Софии.
Офицер охраны сбивает стрелявшего с ног, третьего выстрела нет. Губернатор Пиотрек, пытавшийся заслониться от пули рукой, сползает с сиденья. На террориста бросается толпа. Его топчут, а автомобили уже мчатся прочь, к резиденции.
– Софи, не умирай! – хрипит Франц Фердинанд. – Прошу тебя, Софи! Ради наших детей!
Изо рта у него летят алые брызги, пачкая белое платье жены на груди. Ниже оно набрякло ее собственной кровью, вытекающей из простреленного живота. Глаза у нее безумные, тускнеющие с каждой секундой.
Автомобили исчезают.
Полуживого убийцу волокут прочь от толпы офицеры и полицейские. Его лицо похоже на сырую отбивную, но он смеется разбитым ртом и зубы у него ярко-алого цвета.
29 июня 1914 года. Петербург. Военное министерство.
Кабинет военного министра Сухомлинова
Входит офицер связи с телеграммой в руке.
– Что там, – говорит Сухомлинов, не глядя на офицера.
– Секретная, ваше превосходительство, – отвечает тот. – Из Вены.
Сухомлинов поднимает глаза и протягивает руку – над седыми ухоженными усами кавалергарда темные, накрытые тяжелыми веками глаза. Голова безупречно выбрита. Офицер вкладывает бланк телеграммы в ладонь генерала.
Тот, надев очки, читает.
Потом поднимает глаза на офицера связи.
– Вот, значит, как? – говорит он негромко. – Ну и слава Богу…
29 июня 1914 года. Петербург. Особняк мадам Терещенко
– Она беременна, мама… – говорит Терещенко.
Голос у него усталый. Он понимает, что тратит время впустую, но проявляет семейное упорство, забывая, что с другой стороны стола сидит та, от кого он это упорство унаследовал.
– Я уже слышала эту радостную новость, – цедит Елизавета Михайловна через брезгливо поджатые губы. – Она беременна и приезжает к тебе в Петербург рожать. Я должна рыдать от счастья? Беременна? Так пусть едет в свою деревню и там рожает ублюдков.
Мишель вздрагивает, как от удара.
– Да, сын.
Мадам не говорит, а рубит словами.
– Именно ублюдков. Бастардов. Она не жена тебе. Она в нашей семье никто. Или мне в собственном доме нельзя называть вещи своими именами?
– Это мой ребенок, – выдыхает Терещенко. Кажется, что дыхание у него раскалено и воздух шипит на выдохе. – Это наш с Маргарит первенец…
– Твой ли? – бровь Елизаветы Михайловны выгибается дугой. – Уверен, Мишенька?
Он вскакивает. На щеках красные пятна, челка сползает на покрытый испариной лоб. Кулаки сжаты. Еще миг – и он бросится на мать, но он хватается за спинку кресла и сдерживает себя. Скрипит под пальцами ткань обивки.
– Как. Ты. Можешь. Так. Говорить. – выплевывает он.
– Без труда, – отвечает мадам Терещенко, ухмыляясь одно половинкой бесцветного рта. – Я много раз предупреждала – ей не будет места в нашем доме. Ни с ублюдком, ни без него. Я уж думала, ты поумнел и поменял цветочницу на яхту, но ты обманул меня, повел себя низко. Я была честна, а ты солгал мне, Мишель. Не мне должно быть стыдно, а тебе, сын… Ты поставил свою мать в идиотское положение – я вынуждена напоминать тебе о решении, хоть все было сказано давно и окончательно.
– Она носит твоего внука, мама. Или внучку. Ты не хочешь их видеть?
Елизавета Михайловна смотрит на него не мигая и молчит.
– Ну, будь по-твоему, – говорит Терещенко почти без эмоций. – Значит, и не увидишь…
Он поворачивается и не оглядываясь идет к двери.
По лицу мадам пробегает тень. Она приоткрывает было рот, но тут же смыкает губы, проглатывая окрик, для верности зажав его ладонью.
Хлопает дверь, и только тогда она опускает руку.
– Прости меня, Господи! – шепчет она чуть слышно. – Прости меня, но он не ведает, что творит… Вразуми его, направь на путь истинный!
Хлопает входная дверь.
Елизавета Михайловна встает и подходит к окну. Становится сбоку, чтобы оставаться невидимой, но ее опасения напрасны – ее никто и не пытался рассмотреть.
«Мерседес» Михаила отъезжает от подъезда. Он даже не поднял головы.
30 июня 1914 года. Царское Село
Николай II стреляет по тарелочкам. Стреляет метко, каждый выстрел – попадание. Одет государь не в мундир, а в охотничий костюм и мягкие полусапожки из замши, уместные при сухой погоде. Весь он такой домашний, на царствующую особу не похожий.
За его спиной стоит военный министр Сухомлинов. Этот в мундире, с прямой спиной, смотрит внимательно, цепко.
На столике, придавленная коробкой с патронами, лежит та самая телеграмма из Вены.
– Давай! – командует Николай, и керамическая тарелка взлетает в небо.
Грохочет ружье, и тарелку разносит в крошку.
Щелкает замок, и стреляные гильзы падают в траву.
– Как это произошло, Владимир Александрович? – спрашивает царь, перезаряжаясь.
– Подробностей пока нет, Ваше Величество, я жду новых сообщений от Виккенена. Известно, что наследник с женой были убиты в Сараево двумя выстрелами. Стрелял серб. Начались антисербские волнения.
– Какие именно волнения?
– Погромы, ваше величество.
– Славяне должны поддерживать славян! – говорит Николай.
Замок ружья породисто клацает, закрывая стволы.
– Я полагаю, что нам надобно поддержать сербов…
– Согласен с вами, Государь, – кивает Сухомлинов. – Но в этом случае Россию обвинят в поддержке сербских террористов, а то и с убийством свяжут…
– Давай! – кричит Николай и вскидывает двустволку.
Еще одна тарелка разлетается в воздухе.
– Видите ли, Владимир Александрович, – говорит царь, становясь было в позицию для выстрела, но не стреляет, а аккуратно кладет ружье на столик и наливает себе стакан воды из графина.
Стоящий неподалеку лакей кидается услужить, но государь останавливает его выразительным жестом.
– Нас что так что так будут связывать с этим убийством. Поэтому мы все-таки поддержим сербов. Никто не должен усомниться в славянском единстве!
– Почти наверняка свяжут. – кивает Сухомлинов, голос у него спокоен. – Причина у них будет, основание они найдут.
– Мне кажется, – произносит Николай медленно, и на лице его появляется тень озабоченности, – что мы на пороге больших и весьма неприятных событий и рискуем сильно испортить отношения с кузеном Вильгельмом. И не только с ним…
– Боюсь, Ваше Величество, что мы уже их испортили, – отвечает Сухомлинов. – Я уже говорил Вашему Величеству и еще раз повторю – нам не следует бояться войны. Из войны получится только хорошее для нас, и чем раньше это случится, тем лучше.
Николай снова берет в руки ружье.
– Лучшее? Ну так пусть случится лучшее! Ваши слова, Владимир Александрович, да Богу в уши…
Он прижимает приклад к плечу.
– Давай!
20 июля 1914 года. Вильнюс. Железнодорожный вокзал
Терещенко стоит на перроне с букетом роз в руках.
Проходящий мимо паровоз обдает его паром.
Он быстрым шагом идет вдоль вагонов, находит в окне Маргарит и по мере того, как она продвигается к выходу, шагает вслед за ней.
Марг медленно и осторожно начинает спускаться по лестнице, Мишель помогает ей преодолеть несколько ступенек. Они обнимаются.
Маргарит заметно беременна. Несмотря на пышное платье, видно, что она на последних месяцах срока.
– Слава Богу, – говорит Терещенко, не отпуская ее, – ты наконец-то здесь. Рядом.
Мишель слегка отстраняется, чтобы рассмотреть Марг.
– Как ты, Марг? Как доехала? Как себя чувствуешь?
– Теперь уже лучше, – отвечает она. – Не волнуйся, все в порядке.
– Ты бледная… Но очень красивая.
Марг нюхает розовый букет и от удовольствия закрывает глаза.
– Мне так не хватало тебя, Мишель…
Поезд Вильнюс – Петербург. Спальный вагон. Ночь
Маргарит спит. За окнами темнота. Мерцает ночник, и в его свете видно, что Терещенко бодрствует и смотрит на Марг.
Поезд несется сквозь ночь. Головная лампа на паровозном лбу светит нестерпимо белым светом. Вокруг ни огонька.
Михаил стоит в коридоре у приоткрытого окна и курит.
У него сосредоточенное лицо человека, который готовится решать проблему.
И его трудно назвать счастливым.
21 июля 1914 года. Дом Михаила Терещенко
Маргарит читает, сидя в кресле у распахнутого окна. Жарко. Ни дуновения ветерка, занавески не колышутся.
Когда Михаил входит, он отрывает взгляд от книги и улыбается.
– У меня появилась грандиозная идея! – говорит он, опускаясь перед ней на ковер. – Зачем страдать от августовской жары? В Петербурге она ужасна! Давай поедем на Волгу!
– А это далеко? – спрашивает Маргарит.
– Ерунда! До Рыбинска ночь поездом. А там… Там мы сядем на пароход – он, конечно, меньше, чем «Иоланда», и не так роскошен, но я возьму самую лучшую каюту! И это будет прекрасное путешествие! Ты же никогда не видела Волгу, родная? Огромная река! Могучая, красивая! Едем?
23 июля 1914 года. Главная пристань Рыбинска
От пристани отваливает громадный прогулочный пароход.
Вечер. Мишель с Маргарит сидят в шезлонгах на корме, любуясь дивным пейзажем.
Вот Марг и Михаил едут в двуколке по улицам Ярославля.
Пейзаж сменяется на Кострому.
Вот Маргарит и Мишель возле собора на высоком волжском берегу. От вида, который открывается оттуда, захватывает дух.
28 июля 1914 года
Пароход подходит к пристани с написанным на ней названием «Казань».
На пристани суета. Обычно легкая неразбериха всегда сопровождает прибытие корабля, но в этот раз беспорядок иной. Люди гудят, как потревоженный улей.
Летят с борта швартовочные концы.
Михаил и Марг стоят у борта, наблюдая за причаливанием.
– Что такое? – кричит капитан с мостика дежурному по дебаркадеру. – Что стряслось, Петрович? Что за шум?
– Война, – отвечает Петрович и зачем-то поправляет воротничок. – Дожили. С пруссаками война… Сегодня началась.
28 июля 1914 года. Вокзал Казани
Терещенко идет по перрону, поддерживая Маргарит под локоть. Марг бледна, лицо то и дело искажается легкой гримасой боли, но она тут же берет себя в руки.
Вокзал полон людей. Тут же унтеры собирают в шеренги мобилизованных солдат и грузят в теплушки, стоящие на подъездных путях. Перекличка. Отрывистые команды. Шумно. Кричат провожающие. Плачут женщины. Осеняет новобранцев крестом пузатый поп. Молится, раскачиваясь, мулла. Пыхтит и плюется паром огромный паровоз, которому цепляют вагоны с надписью «Казань – Москва»
За Мишелем и Марг катит тележку с чемоданами носильщик.
Вагон совсем не похож на тот, в котором приехала Марг из Европы – куда как попроще. Но Терещенко купил в нем купе, хоть и не спальное, и заботливо устраивает Маргарит на широком диване.
– Потерпи, девочка моя, – говорит он. – К утру будем в Москве, а там отдохнешь в гостинице, поспишь, и вечером поедем в Петербург. Как ты?
– Ничего, – выдавливает из себя Марг. – Я в порядке. Не волнуйся.
Но ее бледность говорит сама за себя. Над верхней губой россыпью бисеринки пота. Веки посинели.
– Что не так? – заботливо спрашивает Терещенко.
– Душно…
– Погоди.
Мишель рывком опускает окно.
– Сейчас поедем и полегчает…
Вместе с воздухом в окно влетают бравурные звуки духового оркестра, людской гомон, железное звяканье сцепки.
– Ну, когда мы уже поедем? – спрашивает Терещенко, выглядывая на перрон. – Послушайте, проводник!
– Скоро, скоро, барин… – отзывается проводник. – Через полчаса отправление…
2 августа 1914 года. Санкт-Петербург. Московский вокзал. Утро
Терещенко и Маргарит встречает шофер. Пока Мишель помогает Марг сесть в салон авто, водитель грузит чемоданы на навесной багажник.
Маргарит совсем обессилена поездкой. Она уже не в силах скрывать болезненную гримасу.
У Терещенко на лице растерянность и страх.
– Быстрее, – торопит он водителя. – Быстрее…
Дом, арендованный Терещенко
Авто тормозит возле подъезда. Рядом с ним стоит группа офицеров – несколько из них в форме французской армии.
Мишель помогает Марг выйти из машины. Они проходят несколько метров по направлению к дверям, и Маргарит начинает оседать на землю. Терещенко подхватывает ее, но она почти без сознания, бледность стала мертвенной. Офицеры бросаются к нему на помощь. Марг поднимают на руки и вносят в подъезд. Она стонет.
Терещенко с офицерами бегут по лестнице, неся на руках бесчувственную Марг, и за ними на мраморных ступенях видны крупные капли темной крови.
Квартира Терещенко. День
Терещенко курит у окна в гостиной. Он взлохмачен, испуган, сигарета дрожит в руке, глаза красные – то ли от усталости, то ли от слез.
Из комнаты, вытирая руки полотенцем, выходит врач. На мгновение за его спиной виден ворох окровавленных простыней, лежащих в стороне от деревянной спинки кровати, и таз, кое-как накрытый полотенцами.
Мишель бросается к доктору.
– Ну, что Натан Яковлевич? Что с ней?
– Если Бог даст, то с мадмуазель Ноэ все будет хорошо… – отвечает тот. – Она потеряла много крови, но сейчас кровотечение остановилось. Если к ночи не будет жара, то есть надежда, что все обойдется.
– Слава Богу, – шепчет Терещенко. – Слава Богу!
– Ребенка, к сожалению, – говорит доктор и тоже закуривает папиросу, – спасти не удалось.
Он откашливается, опускает глаза.
– Поверьте, не было ни малейшего шанса. Ни малейшего. Мне жаль.
– Главное, что она жива…
– Ближайшие несколько часов за ней надо понаблюдать. Я вынужден буду злоупотребить вашим гостеприимством.
– Устраивайтесь, доктор, – хрипло произносит Терещенко. – Я прикажу подать вам чай. Или, может быть, по рюмке водки?
– Можно и по рюмке, – говорит врач.
– Мне можно к ней?
– Конечно! Но поговорить не удастся. Я дал ей морфию. Пусть поспит.
Терещенко входит в комнату. В двери прямо перед ним выскальзывают медсестра и служанка, вынося испачканные простыни и этот страшный таз, накрытый окровавленными полотенцами. Мишель буквально вжимается в стену, когда тазик проносят мимо него.
В комнате душно. Марг спит. Алебастровой белизны профиль на белой наволочке. Она удивительно красива в этот момент, но Мишелю ее нынешняя красота не в радость – она слишком похожа на смерть.