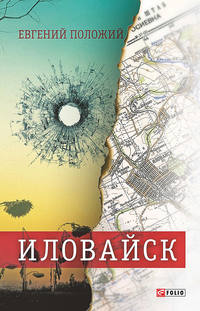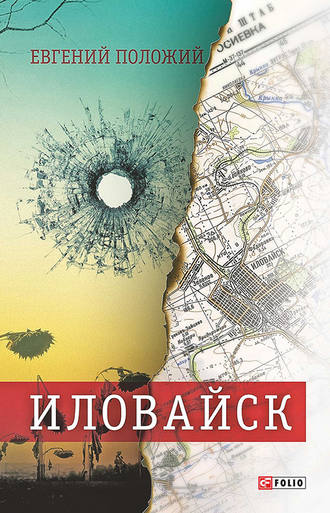
Полная версия
Иловайск. Рассказы о настоящих людях (сборник)
– Давай, зема, присаживайся. В картишки перекинемся!
– Спасибо, мужики, что-то не очень хочется.
– Так мы ж не просто так зовем, мы на интерес.
– А какой интерес?
– Да очень простой интерес, интересный: если ты выигрываешь – живым остаешься, если мы – с нами уходишь. Потому что непорядок это, чтобы живой среди мертвых лежал. Не по-людски.
– Не слушай ты их. – К столику подсел шестой, крепкий мужчина с густыми черными волосами. – Они поговорят-поговорят – и успокоятся. Давай лучше покурим и выпьем.
– Здесь курить нельзя. – Кабан взял в руки бутылку водки, которую дал ему чернявый. – Меня Нюся предупреждала.
– Медсестра, которая тебя привела? Такая кругленькая, симпатичная? – чернявый подмигнул. – Она нас с Артемкой принимала, – кивнул он в сторону мальчишки. – Очень сильно плакала, хорошая девчонка.
– А как вас угораздило? – Кабан хлебнул с горла, передал бутылку чернявому и закурил. В голове сначала помутилось, а потом прояснилось. «Вот это кайф!» – подумал Кабан.
– Смеляков моя фамилия, Володя. Когда-то был боксером, чемпионом Донецкой области, полутяж, даже в сборную вызывался, мастер спорта. Может, слыхал? Потом в бизнес ушел.
Кабан пожал плечами.
– Я боксом мало интересуюсь, я «Формулу» смотрю.
– Мы из Иловайска. На рыбалку мы с Артемкой ехали в то утро на нашей «шестерке», а тут эти пятеро навстречу на джипе. Остановили нас, начали дорогу спрашивать, по карте сверяться, что-то по рации передавать. Я объяснил, в подробности не вдаваясь, как им правильно доехать, и только мы собрались в машину садиться, как мина прилетела, а за ней вторая и третья. Нас с Артемкой сразу накрыло, а потом и этих. А кто стрелял, откуда стреляли – неизвестно, да и какая теперь разница? Мертвые мы.
Кабан сделал большой глоток, набрался смелости и спросил:
– Слушай, Воха, а я у твоего Артемки на плече синяки видел…
– А, это, – улыбнулся Воха. – Так охотники мы. Я его с детства к оружию приучал, везде с собою брал. Он знаешь, как стрелял? Ты смотри, если вдруг эти будут залупаться, ко мне обращайся, не стесняйся, мы их быстро поприжмем.
– А почему вы все сейчас разговариваете, как живые, а сынишка твой – нет?
– Понимаешь, расстроился он очень, что так рано умер, переживал всю неделю. Устал, спит теперь.
– А почему вас не забирают?
– Эх, Серый, если б я знал! Вроде бы слыхал я разговор, что война у нас там, в Иловайске, серьезная, не зайти – не выйти. Жена у меня там осталась, и дочка младшая, семь лет…
– У меня тоже дочка, только постарше.
– Серый, а ты ж – укроп? – отозвались опять картежники. – Укропище! Бандеровец! Ну, и где ты забыл свой пулемет, Кабан? Зачем пришел сюда убивать мирных людей?
– Я за то, чтобы людей не убивали и в мой дом не лезли.
– Ага, и поэтому ты тут в мирных граждан стреляешь?
– Я не стреляю…
– А нам все равно, лишь бы пенсии платили, – откуда-то из темного угла вагона отозвались два старичка и старушка. – Хотя, конечно, мы за Путина. Но теперь нам, конечно, все равно.
Кабан проснулся в холодном поту. Все десятеро покойников лежали на своих местах, смирно в кучке, как и положено, но около двери слышалось подозрительное шевеление и звон ключей.
– Вот свидетельство о смерти. Я за Антониной Федоровной Полозковой, 1923 года рождения, – послышался мужской голос без оружия.
Кабан в панике, держась за бок, бросился в укрытие, юркнул между трупов с ловкостью воздушного гимнаста, прижался к полу и затих под одеялом. Впопыхах он не успел надеть маску, и резкий трупный запах буквально раздирал ноздри. Захотелось встать и выйти поблевать на улицу. Дверь открылась, и морг залило таким непривычным дневным светом, следом за которым приятно потянуло свежим утренним воздухом. Кабану изо всех сил захотелось чихнуть.
– Ну, вот, выбирайте, то есть, извините, смотрите, где ваша, – сказал уже знакомый по предыдущему визиту голос, и в проеме двери мелькнули синие больничные штаны.
– Что же они все у вас так в куче лежат? И запах… – Второй голос принадлежал серым, с блестящим отливом, безукоризненно отутюженным брюкам.
– На холодильник денег нет, а кондиционер поломался. Вы, случайно, не мастер, не можете исправить? – спросили синие больничные штаны.
– Нет, я судья, – ответили серые с отливом.
– Жаль.
– Я судья хозяйственного суда! – веско с вызовом уточнили серые наглаженные брюки с отливом.
– Я сочувствую, – парировали синие больничные.
– Что? Я не понял.
– Я глубоко сочувствую вашей утрате.
– Да, это моя мама. Вот она.
– Хорошо, давайте позовем похоронщиков.
По тамбуру загрохотали тяжелые ботинки, и в морг зашли четыре черные спортивные штанины.
– Вот этот… человек, пожилая женщина, мама, – не сразу нашел правильные слова судья. – Слева, под тем военным, она в темном платке. Как вы можете так хранить покойников? Это же святотатство! Почему вы не разложите их по полкам? Это просто возмутительно!
Кабану показалось, что синие штаны даже хмыкнули от удовольствия:
– И это вы мне говорите?
– Что?! – блестящие серые брюки затрепетали от возмущения.
Похоронщики, особо не церемонясь, отодвинули одного из пятерых вояк в сторону и начали доставать Антонину Федоровну. Кабан почувствовал, как на его больничное зеленое одеяло сначала упал пучок яркого света, а потом равнодушно, как по мебели, прошелся чей-то взгляд. В этот момент с головы Антонины Федоровны соскользнул черный платок.
– Аккуратнее, – зашипел судья. – Кладите на носилки и выносите. Только ради бога, аккуратнее!
Женщину наконец вынесли, и синие штаны закрыли дверь на ключ.
«Интересно, синие штаны знают обо мне? Наверняка же, не могут не знать», – подумал Кабан.
Хуже всего дело обстояло с куревом. Нюся строго-настрого запретила курить в морге: «Заметят сразу, и тогда и тебе, и мне конец. Тебя хоть расстреляют, а вот что мне сделают…» Подвести Нюсю Кабан никак не мог, поэтому боролся с желанием изо всех сил. Хуже всего накрывало с утра, когда кашель вплотную подступал к горлу и сжимал железной хваткой, душил грудную клетку, а рука сама тянулась к единственной пачке сигарет. Если бы в этот момент кто-нибудь зашел, Кабан не мог гарантировать, что выдержит и не закашляет. Первую сигарету он курил, когда его вели на процедуры через больничный двор. Тропинка хорошо просматривалась из больничных окон и даже, как утверждала Нюся, из кабинета главврача, но они шли окольными путями: под стеночками, за кустами, пережидали под раскидистым старым кленом и за старой хозяйственной, очень давно выбеленной постройкой, под крышей которой создатели выложили кирпичами дату: «1913». Здесь Кабан останавливался и, блаженно затягиваясь, отводил душу. Нюся и Женя не курили, зато Викуся дымила, как паровоз, понимала его горе и всегда разрешала выкурить еще одну сигарету, которую он подкуривал от предыдущей. Та же история повторялась на обратном пути.
Вторая проблема, с которой Кабан столкнулся, – гигиена. Умывался, чистил зубы и ходил в туалет по-большому он теперь исключительно перед процедурами. На все про все ему выделяли десять минут, но человек, как уже правильно замечено несколько тысячелетий тому, быстро привыкает ко всему, и Кабан служил этому тезису самым ярким подтверждением. Для остального исправно служила пластиковая бутылка, которую ему принесла Нюся в первый же день. Мочился Кабан нестерпимо трудно и неудобно – нужно вылезти из хибары, пристроиться в вагоне так, чтобы никто из случайно проходящих мимо не смог заметить в окно стоящего на коленях и писающего мертвеца, приспустить одной рукой спортивные штаны и той же рукой сделать так, чтобы все произошло точно и аккуратно. Вначале Кабан настрадался, поэтому предпочитал долго терпеть, но такой подход не давал нужного результата – поспешишь, как гласит народная мудрость, людей обоссышь. Но потом приноровился, можно сказать, натренировался и совершал действие с некоторым даже изяществом.
Иногда по вечерам, когда на улице темнело и заканчивались процедуры, к Кабану заходили в гости Нюся, Викуся или Женя. Оказалось, что Нюся замужем и в то же время и не замужем: три года назад муж уехал на заработки в Россию и пропал – то ли обзавелся новой семьей, то ли прирезали где – неизвестно, но признаков жизни он не подавал. Нюся осталась с четырехлетней дочкой, зарплату в больнице не платили с июня, собственно, как только боевые действия вплотную приблизились к городу и границе. Сводила концы с концами, как могла, брала дополнительные дежурства, словом, известная картина. Викуся была младше Нюси на три года, и жила совсем другой жизнью. Любила риск, резкие отношения с мужчинами, иногда – не с одним. Прическу носила озорную, для этих мест даже вызывающую – крашенная в разные цвета челка, выбритый затылок; в каждом ухе – по два кольца, смешная и смешливая, когда в настроении; смурная, неразговорчивая, если что-то идет не так или, допустим, не нравится погода. За ними двумя почти всегда ходил Женя – еще совсем мальчишка, интерн на практике. Худой, остроносый, очки не носил, хотя зрение имел слабое, бегал каждое утро на турник – горел ярко выраженным сексуальным желанием и любил всем своим мальчишеским сердцем Викусю – слушался ее беспрекословно, и за один поцелуй, не говоря уже о двух, мог продать не только Родину.
Пограничник на четвертый-пятый день стал чувствовать себя намного лучше, и они вместе пытались придумать, как и когда Кабану выбираться на свободу.
Дольше оставаться в больнице было рискованно. Скрывать долго пребывание Кабана в морге невозможно – он перемещался через больничный дворик, его каждый день видел медперсонал, он принимал процедуры, для него брали порции в столовой, он ходил коридорами больницы к своей палате и обратно. Рано или поздно кто-то бы выследил и позвонил сепаратистам, и тогда бы ни нейтральная позиция главврача, ни изобретательность Нюси не спасли б его от плена. Даже сейчас было чудом, что его никто до сих пор не нашел, хотя еще дважды приходили с проверками и обысками, спрашивали конкретно об украинском пограничнике, то есть знали, что он где-то здесь обретается, лечится, харчуется, значит, ждали, искали, но, видимо, не до него пока – вокруг идет война. Нюся говорила, что Алексей Иванович, главврач, даже показывал сепарам его историю болезни, где последняя запись датирована 25 августа: «Да, – отвечал главврач, – я тоже слышал, что украинский пограничник где-то прячется. Но не уверен, что в именно моей больнице, лично я его не видел давно. Возможно, он укрывается где-то в городе, но мне об этом ничего не известно. Если я его увижу, то обязательно вам позвоню».
Что творилось в мире, Кабан знал только по рассказам медсестер и интерна – все очень плохо, но ничего толком неизвестно; и по обрывкам фраз, которые слышал в коридоре от больных и врачей: зашла российская армия, укропы в окружении, всех их убьют, здесь будет «дэнээр», Путин нас спасет. От таких новостей Кабан стал гораздо больше переживать за жену и дочь, чем за себя: что они будут делать, если россияне оккупируют родной город? Он попросил Нюсю позвонить жене по локальному телефону и сообщить, не вдаваясь в детали, где он находится и что с ним все в порядке. После 1 сентября периодически начала появляться мобильная связь, и он сам дважды говорил с женой и матерью по телефону. Жена совсем не сердилась и даже не обещала убить, если вернется, наоборот, обещала любить и беречь, что Кабана, конечно, не могло не порадовать. Родные связались с главным управлением погранвойск, командованием воинской части, СБУ, Красным Крестом, но везде отвечали, что сейчас ситуация в районе Иловайска критическая и в ближайшее время ничем помочь не могут. Говорить без шумов и помех по мобильному телефону можно было только с четвертого этажа больницы, из-под самой крыши. Лифтом здесь пользовался только медперсонал, да и боялся Кабан маленького закрытого пространства – открываются двери, а там, как в кино, стоят сепары и улыбаются: «Где ты спрятал свой пулемет, Кабан?» – или можно столкнуться с кем-то нежелательным нос к носу, например с главврачом. Зачем человека ставить в неудобное положение?
Так что перемещался Кабан исключительно по лестнице, и каждый звонок домой ему давался в полчаса пути только наверх, не меньше, и в семь сошедших потов. На свой телефон звонить он, естественно, всем запрещал, это всем известно – несвоевременный звонок может стоить жизни.
Вечерами Кабан лихорадочно мысленно искал пути спасения, но верных вариантов по-прежнему не находил. Как-то, когда он возвращался с процедур, в коридоре его схватил за руку ушлый на морду мужичонка лет шестидесяти в застиранных больничных штанах и драной серой футболке:
– Слышь, погранец, не торопись так, а то успеешь, а. Дело есть, зайди давай сюда, – и потащил за собой в палату. – Сядь на койку.
Кабан осторожно присел.
– Слышь, погранец, ты домой хочешь? – зашептал ушломордый. Кабан, рассматривая желтое облезлое ухо собеседника, энергично кивнул. Разговор ему не нравился. – Так это, мой брательник, он это, тебя может вывезти. А то водят тебя тут девки, водят, а что толку? Придут наши, найдут тебя – кончат, как пить дать. Давай, боец, двадцать тысяч гривен – и ты дома. Давай, я завтра выписываюсь, сядем втроем на «девяточку» – и поедем. Я выведу, не сцы.
– Двадцать тысяч? Откуда такие деньги?
– Я знаю? Пусть дома подсобирают и передадут. Жизнь-то она подороже будет. Я тебя завтра за хозблоком в обед подожду, там, где ты куришь с медсестрой, усек? Только деньги тут, на месте, предоплата, гы-гы.
Кабан не стал с ходу отказываться – других вариантов он все равно не имел, решил позвонить жене, посоветоваться, как поступить. Да и резкий отказ мог породить нежелательные последствия. Правильнее потянуть время, обсосать детали, поискать слабые места, возможно, он узнает что-то важное для себя, для будущего побега. С другой стороны, идея выскочить отсюда так быстро и так безболезненно казалась настолько заманчивой, что, вернувшись вниз, Кабан уже готов был и согласиться, но он никак не мог себе представить одного – как говорить жене, чтобы она насобирала двадцать тысяч гривен. Не потому, что жена будет ругаться или не соберет этих денег – родители помогут, друзья, но сам факт опосредованного выкупа его очень смущал, чувство внутреннего протеста мешало ему переступить через этот барьер, и он решил оставить этот вариант на самый крайний случай. Когда на следующий день курили с ушлой мордой за хозблоком, аккуратно спросил:
– А как поедем?
– Через блокпосты поедем, ночью, напрямую в Харьков. Так быстрее.
– Не получится.
– Я выведу, не сцы!
– У меня паспорта нет, – соврал Кабан, который имел привычку паспорт и права всегда носить с собой. – Без паспорта меня сам черт через блокпосты не провезет.
– Тогда дай тридцатку, я денег людям дам – выедем!
– Нет столько денег у меня. Жена не соберет так быстро, нужно дней пять хотя бы, ты попозже подойди.
На том и порешили.
Кабан остался доволен таким окончанием разговора – он не отрезал все веревочки, мог в любой момент обратиться за помощью и в тоже время сохранял себя для ушломордого как потенциального денежного клиента, чем гарантировал некоторую безопасность. Последнее обстоятельство, очевидно, не стало тайной в больнице, и после первого сентября к нему в коридоре обратилась молодая дородная женщина с оценивающим взглядом, из тех, на которых держится если не мир, то жизнь в маленьких городках и больших семьях точно:
– Солдатик, а зайди сюда.
– Зачем?
– Спасать тебя будем.
Кабан зашел в женскую палату, и на него тут же воззрилось несколько пар любопытных глаз. Не понижая голоса, спасительница заговорщицки произнесла:
– Семнадцать!
– Что, не понял?
– Тысяч. Семнадцать тысяч, и мой муж довезет тебя до границы с Белгородской областью!
– А как?
– Через Россию.
– Спасибо, я поговорю с женой, может, и соберем столько…
Из этих разговоров Кабан сделал для себя один неутешительный вывод – его пребывание в больнице стало общеизвестным фактом. Единственное, о чем местные наверняка не догадывались – это место, где он прячется. Но рано или поздно, как показал случай с ушломордым, все равно кто-то вычислит, откуда он приходит и куда возвращается, имелось бы желание. Кабан не верил в добрые намерения людей, но он верил в их инертность и равнодушие к окружающему миру и в неуемное желание легких денег. Характер и поведение, по его наблюдениям, большинства местного населения определялись, прежде всего, этими факторами, а уж потом отношением к украинским военным, Украине, «дэнээр», России и всему остальному. Хотя Россия все же в умах большинства занимала превалирующие позиции – Россия светилась мечтой, как некое Эльдорадо, которое принесет счастье после совершения минимальных усилий, а может быть, даже и без таковых. Эти люди смотрели на него не как на врага, не как на защитника, не как на больного или раненого. Они смотрели на него как на совершенно чужого – из другого мира – человека, который оказался здесь случайно, оказался в беде, и на этой беде, раз уж чужак здесь, не зазорно заработать – с него не убудет, а семье польза. В больнице кормили очень плохо, Кабан не доедал и сильно похудел, но сколько бы раз он не проходил по коридору мимо холодильников или людей, несущих домашнюю еду, которая так вкусно пахла, ни разу ни один человек не предложил ему даже худого бутерброда или печенья. Кабан ни на кого не обижался и не ждал помощи. Все, что он хотел от этих людей – молчания, за которое он платил надеждой на быстрый и легкий заработок. Сохранять такой хрупкий баланс долго невозможно, это Кабан также хорошо осознавал. Через несколько дней они поймут, что он просто тянет кота за хвост, тянет время, и тогда ловушка захлопнется – он станет никому не интересен, более того, на него будут злы, как на сундук, который оказался пустым.
Уже который день, лежа под трупами, он закрывал глаза и впадал в полузабытье: вспоминал дочку, жену, родителей, друзей, он идеализировал картины возвращения и будущей жизни, мечтал о том, как все вместе соберутся за одним столом и хорошо погуляют. Кабан раздумывал над тем, что надо бы родить сына, жена давно хотела второго ребенка, а он не соглашался, зато теперь он двумя руками, двумя ногами, ну и всем остальным, что шевелится у мужчины, только «за». Через дырочку в одеяле, пропахшем медицинским раствором и мертвечиной, с запахом которой он так и не свыкся, Кабан видел лицо убитого мальчишки, если верить сну – Артемки. Мальчик лежал около отца Вохи (Кабан не знал, как относиться ко сну, но для себя называл всех так, как услышал ночью), закинув руки над головой, будто действительно спал. Его детская кожа местами потрескалась и посинела, лицо распухло, но от этого стало еще невиннее и беззащитнее. Кабан попытался представить, какого цвета у Артемки глаза, как он говорит, как смеется, как играет в футбол, как ходит с отцом на рыбалку и охоту… Здесь воображение Кабана запротестовало, он не хотел представлять ребенка с оружием в руках. Нет, он не стал пацифистом, и его желание воевать и уничтожать врагов никуда не пропало, невзирая на все неприятности, которые обрушились, однако что-то новое возникло в душе, и он очень хорошо это ощущал и осознавал.
Сергея Петровича и Александра Павловича, обеих старичков, забрали с утра на четвертый день. Привычно зазвенели ключи, загрохотали в тамбуре ботинки работников похоронки, зацокали каблуки, открылась дверь, и в вагон вошли синие больничные штаны и длинное темное платье, под которым угадывались молодые стройные крепкие ноги.
– Я за дедушкой, – сказали ноги.
– Как фамилия? – попытались спросить сухо, но не смогли, синие больничные.
– Демидов Сергей Петрович.
– Год рождения?
– Тысяча девятьсот двадцатый.
– Пожил ваш дедушка!
– Да, три войны прошел.
– Три?
– Ну, да, три: финскую, Отечественную и японскую.
– Девятьсот пятого? – попытались пошутить синие больничные.
– Давайте к делу, – темное платье и длинные молодые ноги не оценили шутки. – Мы с главврачом по телефону договаривались, что привести дедушку в порядок можно прямо тут. Я только приехала, всего на один день, тут заниматься похоронами особо некому, так что мы быстро домой, попрощаться, а потом сразу на кладбище.
«Только не это, – подумал Кабан, – ни кашлянуть, ни… Где они будут это делать?»
– Ну, не знаю, насколько будет удобно, здесь запах не очень, сами чувствуете – кондиционер не работает, исправить некому, а на холодильник у больницы денег нет… – как-то неуверенно сказали синие штаны. «Волнуются. Что-то не похоже на них», – отметил Кабан.
– У меня тоже нет. – Темное платье не было настроено на долгие разговоры.
– Чего нет?
– У меня тоже – на ремонт кондиционера и новый холодильник для вашего вагономорга – денег нет, – уточнило, раздражаясь, темное платье.
– Но благотворительный взнос…
«А, вот почему синие брюки заикаются – денег хотят», – смекнул Кабан.
– Сколько?
– Да ради бога, это же благотворительный взнос, кто сколько даст. Обычно дают триста.
– Гривен? – уточнило платье.
– Ну, пока не рублей, – уточнили синие больничные.
Платье щелкнуло сумочкой и отдало деньги, синие больничные заискивающе всхлипнули:
– Вот на той полочке располагайте дедушку, пожалуйста. Заходите ребята, тяните его аккуратно туда, переступайте наших несчастных, да, столик можно поднять, если нужно.
– Сколько это времени займет? – Темное платье расслабилось, но не подобрело.
– Минут тридцать, не больше, – ответили черные штаны из похоронного.
– Хорошо, я на улице подожду. Тут кафе рядом есть? Мне бы выпить чего-нибудь, желательно, покрепче. Запах здесь у вас…
– А пойдемте ко мне, у меня коньячок, – предложили, повиливая штанинами, синие больничные. – В холодильничке.
– А пойдемте! – Молодые загорелые ноги резко развернулись к выходу, и Кабан увидел упругие блестящие голени. – День впереди тяжелый.
– И жаркий, – поддакнули синие больничные.
Кабану показалось, что он даже расслышал, как у санитара от предвкушения коньячного удовольствия зашевелились пальцы на ногах.
– Слышь, Грек, а ты чо девке про полчаса прогнал? Тут же работы – на семь минут. Дед нормальный вполне, раз-два подправить – и дело с концом.
– Ага, братан, по полштуки она нам за семь минут, думаешь, отвалит? А за полчаса – отвалит. Время при контакте с женщиной – фактор решающий, скорострелов никто не любит! Так что доставай причиндалы, давай деда красить.
Мужики засуетились вокруг Сергея Петровича, достали инструменты и принялись за работу. Кабан лежал тихо, старался реже дышать и думать о чем-то своем. Вдруг он услышал характерный шелест целофанки от сигаретной пачки и щелчок зажигалки, в морге запахло крепкими дешевыми сигаретами. Кабан судорожно икнул, стараясь не шевелиться и не шуметь, и еле сдержал стон – курить захотелось неимоверно.
– Эй, ты что-то слышал? – Похоронщик оторвался от лица старика.
– Что слышал? – Второй сосредоточенно откупоривал чекушку.
– Ну, вроде как икнул кто-то.
– Я не икал, – «шпок» – откупорилась чекушка.
– То есть это не ты икал?
– Да нет, то есть да – это не я икал. То есть, нет. Короче, это бутылка икнула, гы-га-га!
– Тише ты! Не пались. Спрячь чекушку, я еще не закончил дедушку украшать.
– Да ладно тебе, давай уже.
Кабан услышал, как мужики отхлебывают из бутылки – полку, где лежал Сергей Петрович, он не видел и, что там происходило, мог реконструировать только по звукам. «Как слепой индеец ночью в прериях», – подумал Кабан, когда-то в детстве он любил читать Фенимора Купера.
– Слушай, а чо этих не забирают, из «дэнээра»?
– Так некому. Они вроде бы и не наши, но в тоже время вроде бы и наши, а забрать некому.
– Это как?
– Ну, не местные они, россияне, с Урала откуда-то, типа разведка «Новороссии». Неудачно зашли.
– Все семеро?
– Не. Вот этот, который помоложе, я слыхал, наш, местный, иловайский, а мальчонка – сын его. Попали под минометы, их всех вместе и накрыло.
– Бля, укропы – фашисты! Детей не жалеют!
– Да разве ж они кого пожалеют? Всем кишки вынут! Видал, что по ящику Россия показывает?
Кабан затаился изо всех сил, понимая, что одно неосторожное движение, один вздох сейчас его выдаст, и все усилия последних дней и ночей, вся его пруха закончится – сдадут с потрохами. Он набрал полный рот слюны, чтобы прогнать вкус курева, и попытался сосредоточиться на лице дочери: длинные темно-русые волосы, которые она так красиво расчесывает перед зеркалом, карие глаза, но вдруг неожиданно переключился на свой отряд: а как там пацаны? Он вдруг осознал, что за все это время лишь пару раз вопрос о судьбе товарищей отчетливо звучал в его голове. От жены он знал, что отряд вышел в Мариуполь – и вроде бы без потерь, но что и как, подробно не расспрашивал. Теперь Кабан понял причину – он гнал от себя этот проклятый вопрос: как они могли его оставить? Нет, как военный человек он понимал, что свобода и жизнь сорока четырех человек, целого отряда – о трех пленных пограничниках, которых взяли в Амвросиевке после отхода отряда, ему рассказала Нюся – важнее, чем жизнь и свобода одного, а значит, командир поступил правильно. Но почему его не предупредили? Не дали шанса уйти? Не дали вообще никаких иных шансов, чем попасть ему, пулеметчику, в плен? Можно ведь было позвонить по обычному телефону в больницу, если не успевали приехать… Кабан не находил ответа на эти вопросы, но для себя решил на пацанов зла не держать, выберется – спросит, как обстояло дело. Он не верил в злой умысел, слишком много хороших товарищей у него осталось в отряде.