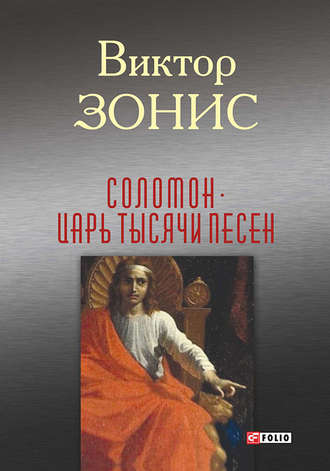
Полная версия
Соломон. Царь тысячи песен
Гракх вытянулся в струнку.
– У нас кое-что случилось, произошли небольшие волнения…
Плавт схватил опциона за грудки.
– Что ты мямлишь, как римская шлюха, выклянчивая лишний сестерций! Говори внятно: что случилось?
– Наши ребята немного почистили дом хлеботорговца на улице Царицы Савской. Ну, он поднял крик… сбежались люди, началась потасовка…
– Хороши воины великого Рима! – окончательно разозлился Плавт. – Забыли о приказе командующего: в стычки с местным населением не вступать?
– Так жалованье уже два месяца не платят… да и взяли сущие пустяки – хлеба, вина… и там еще…
– Все живы? – прошипел кентурион.
– Ну, трое раненых у нас, и у них с десяток… Торговец со своими людьми закрылся в подвале, и наших двое с ним… пленники…
Плавт сплюнул под ноги опциону и точным, расчетливым движением вскочил на коня.
У дома хлеботорговца, на грязной и тесной улочке, собралось больше сотни разъяренных, громко орущих людей. Иудеи сгрудились вокруг нескольких окровавленных собратьев, лежащих в пыли посреди улицы и посылающих страшные проклятья в сторону стоящих поодаль римлян.
Плавт на полном скаку осадил коня, спешился, мгновенно оценивая обстановку. Иудеев и солдат было пять к одному. Пустяк в открытом сражении. Но на узкой кривой улочке с многочисленными подворотнями и лавками, из которых выглядывала еще, как минимум, сотня озлобленных глаз, это грозило перерасти в серьезную потасовку с сомнительным исходом.
Плавт оглянулся по сторонам и, увидев, что к ним рысью приближается та самая сирийская ала, приободрился и решительно поднял руку.
– Внимание и повиновение! – хриплым, сорванным голосом скомандовал он. – Именем великого императора Рима всем немедленно разойтись! За неповиновение – смерть!
Толпа при виде сирийских всадников с угрозами и проклятьями отступила на несколько шагов. От нее отделился довольно опрятно одетый молодой мужчина. Он решительно подошел к Плавту, с вызовом посмотрел ему прямо в глаза и на хорошей латыни зловеще произнес:
– Хочешь больших неприятностей, римлянин?
Рука Плавта инстинктивно сжала рукоятку меча:
– Ты мне угрожаешь, иудей? Захотел мучительной смерти?
Тот, нисколько не смутившись, продолжил:
– Твои люди, словно бешеные собаки, напали на дом уважаемого жителя Иерусалима и тяжело ранили нескольких ни в чем не повинных людей!
– Они уже повинны в том, что оказали сопротивление римским солдатам, выполняющим специальное задание!
– Специальное задание? Грабить бесстыдно среди белого дня – это специальное задание? Ты лжешь, куратор, и эта ложь дойдет до ушей твоего командующего! Или ты, кентурион, не знаешь, что есть указ о жестоком наказании за грабеж и насилие? Указ, подписанный нашим Первосвященником и вашим командующим! Так что не сносить головы твоим легионерам за грабеж и разбой и тебе – за покрывательство их.
Плавт быстро сообразил, что угроза эта не пустая, и уже спокойно и примирительно произнес:
– Я никого не покрываю, а хочу разобраться в том, что здесь произошло. Если мои люди неправы, они будут строго наказаны. Раненым мы окажем помощь, и они получат достойную компенсацию. С хозяином дома я поговорю сам.
И, видя недоверие в глазах собеседника, добавил, ударив себя в грудь кулаком:
– Слово Титуса Гонория Плавта – кентуриона и куратора!
Мужчина повернулся к толпе, окружившей их плотным кольцом. Он воздел руки к небу и торжествующе прокричал:
– Слышали, братья? Преступники будут наказаны, а раненым и ограбленным будет оказана помощь и выдано вознаграждение. Римлянин дал слово!
Когда улица опустела, Плавт подошел к своим легионерам.
– Так, жалкие дети гиены, все расходы – из вашего жалованья. Все, как один, на две недели в караул безвылазно. Из лагеря отлучаться только за смертью! Ну, и чем поживились, недоумки?
Солдаты нехотя расступились, и Плавт увидел старинный полусгнивший деревянный ящик. Он многозначительно переглянулся с командиром алы и резко скомандовал:
– Всем немедленно в лагерь. Ящик доставить мне в палатку!
* * *Плавт осторожно подцепил мечом петли и открыл крышку. Ящик был доверху набит тонкими глиняными табличками.
– О, нет! Боги, зачем вы издеваетесь надо мной? – разочарованно выкрикнул он.
– Погоди! – сириец осторожно достал из ящика древнюю табличку, аккуратно стер с нее пыль. – Погоди, погоди…
Он подошел близко к светильнику и начал медленно разбирать слова: «…На тридцать седьмом году царствования Давида над Иудеей и Израилем…»
– Что ты там возишься с этой иудейской рухлядью! – раздраженно сказал Плавт. – Выбрось этот хлам. Вон сколько пыли поднял. Пойдем лучше промочим горло: я знаю здесь одно более-менее приличное местечко.
Сириец с сожалением оторвался от чтения таблички и бережно положил ее в ящик.
За кружкой вина он спросил римлянина:
– Ты, наверное, здесь недавно, Плавт?
– Это, смотря как считать: мне кажется, что целую вечность!
– Да, здесь все отдает вечностью. Но, с другой стороны, платят неплохо, да и делать особенно нечего, пока.
– Почему – пока? Разве эти дикари способны на какое-то организованное сопротивление? – удивился Плавт.
– Вот вы все такие, римляне, заносчивости много, – улыбнулся сириец. – Я здесь уже третий год и кое-что понял. Да и историей немного интересуюсь. Они – фанатики! За своего мифического, невидимого Бога готовы пойти на смерть и с собой унести туда тех, кто посягает на их веру и свободу. Можешь мне поверить, Плавт, я здесь достаточно насмотрелся! И то, что римские легионы сейчас в Иерусалиме, это ненадолго. Появится среди них какой-нибудь пророк, и будет страшная резня. Вот увидишь, прольются реки крови – и нашей, и их.
Плавт презрительно фыркнул:
– Ну и сказочник ты! Какие реки? Да один легион справится со всем этим грязным сбродом!
Сириец покачал головой:
– Если бы так, если бы так… Ты знаешь, меня никто не может упрекнуть в трусости или паникерстве. Но если поднимется бунт, каждый дом, каждый куст, каждый камень на дороге будет нести нам смерть! Тогда и десять легионов не помогут. Их нельзя покорить, можешь мне поверить. Уничтожить можно – покорить нельзя!
– Ладно, время покажет, кто из нас прав, – махнул рукой Плавт. – Скажи лучше, зачем тебе эти варварские письмена?
Сириец немного подумал.
– Понимаешь, когда-то, на родине, я занимался обжигом глины и изготовлением из нее различных изделий. Так вот, табличкам этим не менее тысячи лет! Не могу сказать тебе определенно, но, зная, как иудеи бережно и ревностно относятся к своему прошлому, можно попытаться продать эти таблички… в них, по-моему, говорится о каком-то их царе. Я не силен в иудейском, но знаю одного ученого человека в Риме и хочу, чтобы он все это прочитал и перевел. Тогда буду знать, как поступить дальше.
Плавт неодобрительно покачал головой:
– Я тебе, конечно, все это отдам, но уверен, что ты большой мечтатель. Никому не нужны эти грязные таблички. Через пару лет Израиль станет римской провинцией, и мы заставим их забыть своего смешного Бога, и какого-то жалкого царя.
– Ну что ж, – задумчиво произнес сириец, – нам не дано знать, что будет завтра. Тысячу лет хранились таблички в ящике, пусть пока полежат еще немного. Может, не я, так дети мои будут знать, что с ними делать…
Глава 3
Я, Экклезиаст, был царем над Израилем е Иерусалиме; и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем.
Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все – суета и томление духа!
Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Говорил я с сердцем моим так: вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость: узнал, что и это – томление духа; потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.
Экклезиаст. Гл. 1…На тридцать седьмом году царствования Давида над Иудеей и Израилем постигла его тяжелая болезнь. Царь потерял интерес к жизни: больше не входил к женщинам, пищу принимал скудно и с отвращением. У него ничего не болело, только все чаще и чаще отказывали ноги и руки, пропадали голос и зрение. В самый жаркий день царь страдал от холода, и даже под толстым покрывалом его бил озноб. Во дворец привели юную красавицу, Ависагу-сунамитянку, которая призвана была согревать дряхлеющего Давида теплом своего тела. Но это тоже не помогало…
Болезнь его была странной и неведомой, и собранные со всего света врачеватели и мудрецы беспомощно разводили руками. От египетского фараона были доставлены для Давида мази и растирания; тирский царь Хирам прислал знаменитого колдуна – заклинателя демонов и покорителя диких зверей. Ничего не помогало – Давид таял, как догорающая свеча.
Это не замедлило отразиться на положении дел в стране: на западных и северных границах происходили волнения, наследники Давида раскачивали лодку власти, примеряя на себя царский венец. Пророк Натан, священник Садок и военачальник Ванся, сын Ахелуда, пытались удержать бразды правления от имени Давида, но их мало кто слушал.
Когда же царевич Адония, сын Агиффы, собрал на знатный пир братьев своих и многих влиятельных людей – противников Давида, а младшего из детей царя, юного Соломона, не пригласил, пророк Натан забил тревогу. Верные люди донесли ему, что на пиру том Адония объявил себя царем, и очень многие из присутствующих поддержали его.
Уже ранним утром следующего дня Натан, Садок и Ванея собрались в покоях у Вирсавии[3], матери Соломона.
– Слышала ли ты, царица, сколь страшные события происходят сегодня в пределах Израилевых? – спросил Натан.
Вирсавия пожала плечами:
– Ты же знаешь, мудрый, что меня не интересует политика, только здоровье и благополучие возлюбленного хозяина моего, Давида… С ним что-то случилось плохое? – тревожно всплеснула она руками.
– Разве может быть хуже с царем, чем есть сейчас? Даже смерть была бы для него лучше, чем унижение, которое терпим мы от имени его! – сказал Садок.
Ванея повел мощными скулами и, положив руку на меч, резко произнес:
– Казнить изменников немедленно! Всем отрубить преступные головы – публично, перед крыльцом царского дома. Примите решение, и мои хелефеи и фелефеи[4] уже к полудню приведут сюда на веревке Адонию и всех остальных с ним.

Натан презрительно посмогрел на Ванею.
– Тебе всю твою жизнь мало было пролитой крови! Как можем мы это решить? Царь наш озяб, но не остыл еще перед Богом! Хочешь одно зло разрешить другим? Это будет еще большим грехом, чем то, что сделал Адония, объявив себя царем над Иудой и Израилем!
– Царем?! – вскричала Бат Шева. – Но ведь Давид клялся перед Богом, что Соломон унаследует трон!
– Поэтому мы и пришли к тебе, – мрачно произнес Садок. – Никогда, пока я жив, не прольется елей на голову Адонии!
– Больно ему это от тебя нужно. Ты что, уже стал Первосвященником вместо Авиафара? Адония легко найдет того, кто его помажет, когда покончит с твоей головой. Желающих сыщется больше, чем надо, и первый из них – Первосвященник Авиафар! Казнить изменников немедленно! Пока вы тут болтаете, Адония соберет множество людей, желающих обнажить за него меч. Не забывайте, что он старше Соломона, а значит, прав на трон имеет больше, – настаивал на своем Ванея.
– Да, это так. В этом я поддерживаю Ванею, – Патан взял за руку Вирсавию. – Но только в этом. Мы все сейчас идем к Давиду. Только он законно может разрешить этот вопрос. И молите Бога, чтобы царь сегодня был в здравом рассудке!
В покоях Давида царил полумрак. Он сидел, обложенный подушками, на ложе, перебирая и перекладывая золотые украшения, горкой сваленные на постели. У его ног примостилась Ависага, тихо напевая заунывную песню.
Вирсавия подошла совсем близко, став прямо перед Давидом.
– Выйди прочь! – приказала она девушке.
Давид поднял взгляд на Вирсавию.
– А, это ты, Бат Шева… – тихо произнес он. – Давно я не видел тебя.
Вирсавия присела на ложе, взяла его за безжизненную, прозрачную руку, погладила.
– Одно слово, и я буду с тобой всегда…
– Всегда продлится недолго, – тяжело вздохнул Давид. – Что привело вас? – спросил он, глядя на Натана.
Тот подошел ближе, поклонился.
– Скажи, мой господин, обещал ли ты Бат Шеве, что Соломон сядет на престол после тебя?
– Обещал, и не только ей, но и перед Богом!
– Так настало время исполнить это! Адония устроил заговор в Иерусалиме и объявил перед приспешниками себя царем над народом Израиля и Иудеи, от Дана до Вирсавии[5]!
Давид сделал попытку встать, покачнулся и упал прямо в руки подбежавшего Ваней. Тот аккуратно поднял невесомое тело и осторожно усадил царя на скамью.
– Этому не бывать! – Давид собрал всю свою волю, его взгляд стал жестким, властным, прежним. – Пусть Бог покарает меня безумием, язвами и коростой! Пусть Бог продлит навечно страдания мои, если я позволю это сделать! Ванея! – закричал он. – Верны ли мне по-прежнему хелефеи и фелефеи?
– До последнего вздоха! – поклонился военачальник.
Давид кивнул головой:
– Возьмите сейчас моего мула, посадите на него Соломона и ведите к Гаваону, где у священного алтаря Садок помажет его на царство! И пусть там будут все слуги мои, и верные люди, и старейшины, и левиты во множестве, чтобы видел Израиль – сильна еще перед Богом воля Давида! И трубите громко в трубы и веселитесь. И пусть рекой льется вино, и еда будет для всех – от пророка до последнего нищего, чтобы видели все и знали – Соломон наследовал трон Давида перед Богом и Израилем!
Напряжение было столь велико, что силы оставили его, и на побелевшем, обескровленном лице выступили крупные капли пота.
– Воды! Принесите воды… – прохрипел Давид.
Переведя дух, он продолжил:
– После того приведете Соломона ко мне. Буду с ним говорить!
* * *На следующий день внушительная процессия направилась от дворца к Северным воротам Иерусалима. Впереди, десятью шеренгами по двадцать человек в каждой, шли рослые, в полном парадном облачении, фелефеи и хелефеи. За ними, в роскошных одеждах, на царском муле, украшенном богато расшитым золотом ковром, двигался Соломон. Пророк Натан, священник Садок в сопровождении множества левитов[6] с зажженными факелами в руках торжественно шествовали по обе стороны от Соломона. Шествие замыкали трубачи и толпа царских слуг, истошно выкрикивающих: «Слава царю над Израилем, Соломону! Осанна в Вышних!»
Процессия медленно двигалась через весь город, обрастая на своем пути все новыми и новыми участниками. Особенно внушительной стала толпа, когда царь шествовал через нижнюю часть Иерусалима, где обитали мелкие торговцы и ремесленники, писцы и беднота.
Узкие улочки нижнего города, плотно застроенные домами из серого известняка, на плоских крышах которых коротали знойные ночи их обитатели, причудливо изгибаясь и пересекаясь, сходились к двум городским базарам. Дома, выстроенные стенка к стенке, в основном двухэтажные, отличались только размерами и наличием или отсутствием маленьких дворов, за высокими стенами которых прятались скудные пальмовые деревья и хозяйственные постройки. Достаток обитателей этих жилищ, близость их к чиновничьей элите верхнего города безошибочно определялись по ослиному резкому и гортанному крику, или протяжному, натруженно-грозному стону волов и мулов, порой напоминающих о своей тяжкой доле из-за высоких заборов. Улочки зажатые, как в тиски, домами, неряшливо и редко вымощенные необработанными камнями, были покрыты толстым слоем рыжеватой пыли, при малейшем движении и порывах ветра поднимающейся над раскаленными крышами домов. Таким был нижний – многоликий, шумный и непритязательный город, отделенный от зажиточной его верхней части крепостной стеной.
Верхний Иерусалим населяли богатые торговцы и их многочисленные родственники, чиновники царского двора, свещенники, полицейские и военная элита. Здесь улицы были шире, дома выше, серый известняк покрывала штукатурка, деревянные ставни окон, изготовленные из ценного ливанского дерева или отделанные им, украшала затейливая резьба. Заборы вокруг домов были ниже, чем в нижней части города – здесь не скрывали, а, наоборот, выставляли напоказ богатство, успешность, достаток. Одежда обитателей кварталов Верхнего Иерусалима отличалась зачастую изяществом отделки, разнообразием цветовой гаммы и украшениями…
Процессия оказалась настолько длинной, что когда Соломон со своей свитой достиг уже Гаваона, последние ее участники только покидали Иерусалим.
* * *Как только торжества закончились, к отцу пришел Соломон. Давид сидел на троне, в праздничном одеянии. У его ног лежали ставшие среди народа легендой, прославленные в великих битвах царские щит и меч. Соломон опустился на колено и поцеловал край одежды Давида.
– Приветствую тебя, великий царь! – почтительно произнес он.
Давид улыбнулся:
– Еще не было под небом Израиля двух царей одновременно, – возразил он. – Или мне донесли ложно, что Соломона помазали из священного рога вчера в Гаваоне?
– Нет, не ложно, все было по воле твоей.
– Тогда не называй меня больше царем, просто отцом! Мне будет так приятней, Соломон.
– Пока ты, великий, да продлит Господь дни твои вечно, не преступишь порог в чертогах Сущего – ты истинный царь над народом!
Давид сделал протестующий жест:
– Хватит об этом. Помоги мне лучше дойти до покоев, устал я немного… там и поговорим…
– Слушай меня, Соломон, слушай внимательно! Думаю, что разговор у нас с тобой последний. Мое время ушло, а твое только приходит. Я покидаю этот мир спокойно, потому что знаю – ты будешь достойным царем, лучшим, чем был я. Поэтому я спокоен, поэтому Бог указал мне на тебя. Но быть царем – это не роскошь и развлечения, как думают твои беспутные братья, а тяжелый груз сомнений и ошибок. У меня было очень много сомнений и еще больше ошибок. Особенно в молодости, когда я многое мог, но ничего не знал. Сейчас, когда я знаю, я ничего не могу – ни изменить, ни исправить. Я хочу, чтобы ты уже сейчас мог и то, и другое. И я верю, что так и будет! Ты становишься царем в смутное и тяжелое время, – Давид горестно вздохнул. – Я пролил много крови, создавая эту страну. Много малых и больших народов сейчас под рукой Израиля. Только удержать – сто крат труднее, чем покорить! Я строил страну так, как умел – огнем и мечом. Ты сделаешь ее великой – словом и мудростью. Так говорил Бог пророку Натану, так чувствую я грешным сердцем своим. Но кровь не только пятнает, но и очищает, особенно если это кровь врагов. И тебе тоже не миновать этой очистительной жертвы. Нельзя идти вперед, оставляя за спиной пропасть, нельзя строить новое на развалинах старого, как нельзя стать отцом, не познав женщины. Запомни в сердце своем то, что я сейчас скажу, и поклянись перед Богом, что исполнишь все, как бы ни противно было это духу твоему. Я правил мечом, а тебе предстоит править словом! Но слово становится тверже меча, когда сила его принесена на мече. Чтобы царствование твое не закончилось вместе со смертью моей, нужно безжалостно уничтожить главных врагов, лишить вождей тех предателей, которых во множестве развелось в Иерусалиме в дни немощи моей. Первым – Авиафара, сына Саруйи – Первосвященника, незаконно помазавшего на царство брата твоего, Адонию. Семея, сына Геры, за то, что злословил меня и проклинал перед всем народом. Иоава, сына Саруи – главного военачальника, за то, что подло, из зависти, пролил кровь во время мирное лучших военачальников израильских, за то, что стал на сторону бунтовщиков сейчас…
– А как поступить мне с братом Адонией? – перебил Соломон.
Давид глубоко вздохнул:
– Как я могу советовать восстать на брата? Поступай с ним по мудрости своей. Только не принимай поспешного решения – родная кровь остается на руках всю жизнь, до самой смерти… поверь, я это хорошо знаю…
Глава 4
И сказал я в сердце моем: «И меня постигнет та же участь, как и глупого: к чему же я сделался очень мудрым?» И сказал я в сердце моем, что и это – суета; потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни все будет забыто и, увы! Мудрый умирает наравне с глупым.
И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем; ибо все суета и томление душ! И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает: мудрый ли будет он или глупый? А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это – суета!
И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем, потому что иной человек трудится мудро, с знанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, в чем была часть его. И это – суета и зло великое! Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его – скорби, и его труды – беспокойство: даже и ночью сердце его не знает покоя. И это – суета!
Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это – от руки Божьей; потому что кто может есть и услаждаться без Него? Ибо человек, который добр перед лицом Его, Он дает мудрость и знание и радость; а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим. И это – суета и томление духа!
Экклезиаст. Гл. 2В последний день траура по усопшему Давиду Вирсавия разыскала Соломона в хранилище. Он вместе с писцами Елихорефом и Ахией разбирал царский архив.
Вирсавия удивленно посмотрела на сына.
– Я с большим трудом нашла тебя. Разве с архива должен начинать свое правление царь?
– Ты сейчас искала сына или царя? – улыбнулся Соломон.
– Больше царя, чем сына, если одно можно отделить от другого, – после некоторого раздумья ответила она.
– Ну, если больше царя, то встретимся в полдень в тронном зале. Я хочу еще немного здесь покопаться.
Когда Вирсавия вошла в зал, Соломон уже восседал на троне, окруженный многими слугами. Увидев мать, он велел внести малый трон и, отослав царедворцев, усадил ее.
Вирсавия улыбнулась Соломону.
– Зачем столько торжественности? – спросила она. – Я пришла просто поговорить.
Соломон пристально посмотрел на мать.
– Если хотят просто поговорить, не разыскивают лично целый день по всему дворцу, а посылают слуг, чтобы узнать, где находится царь.
Вирсавия потупила взгляд.
– Да, истинно говорят, что Соломон мудр не по годам! Исполнишь ли ты просьбу матери?
– Как я могу ответить – да, если не знаю, в чем просьба и по силам ли мне ее исполнить? Но если просит мать, то я могу смело сказать – да! Мать ведь никогда не попросит то, что принесет вред ее сыну, или то, что он не в состоянии исполнить? Говори, я сделаю все, что смогу.
– Вчера у меня был Адония. Он просит в знак примирения между вами отдать ему в жены Ависагу-сунамитянку. Говорит, что воспылал страстью к ней.
– Да? И когда воспылал – сейчас или еще при жизни Давида?
Вирсавия пожала плечами.
– Не знаю. Какое это имеет значение?
– Действительно, какое? – ухмыльнулся Соломон.
– Я думаю, что ты можешь это сделать… Ради примирения. Зачем тебе эта глупая девчонка? – настаивала Вирсавия. – Адония опасный человек, и я хочу, чтобы между вами не было вражды.
Соломон встал с трона, прошелся по залу.
– Не думал я, что, став царем, не смогу выполнить первую же просьбу моей любимой матери, – задумчиво произнес он. – А царство мое он у тебя не просил? – вдруг зло выкрикнул он – Ты не понимаешь разве, что Ависага нужна ему не более, чем тебе? Трон ему нужен, трон! Так давай отдадим его Адонии вместе с наложницей!
– Но почему?
– Потому, – жестом остановил мать Соломон, – что тот, кто владеет имуществом Давида, его женой или наложницей, в глазах народа владеет и троном! Половина военачальников, священников, чиновников и без того на стороне Адонии, готового в любую минуту поднять бунт против меня. Ависага не просто наложница – она согревала последние дни жизни Давида, и весь Иерусалим это знает! Поэтому просьба твоя к царю Соломону направлена против сына твоего Соломона. И я говорю тебе – нет!
Когда обескураженная Вирсавия ушла, Соломон позвал Ванею.
– Знаешь, о чем просила мать? – раздраженно спросил он. – Дать в жены Адонии Ависагу!
Ванея пожал плечами.
– Я бы дал ему в жены смерть! Я говорил, говорю, и буду говорить: Адонию надо уничтожить! Нельзя держать рядом с ложем скорпиона.





