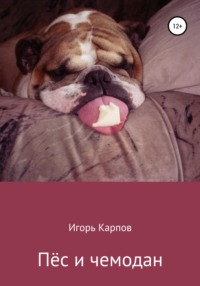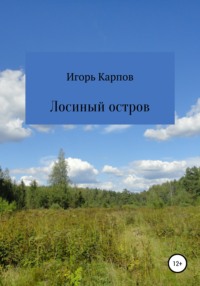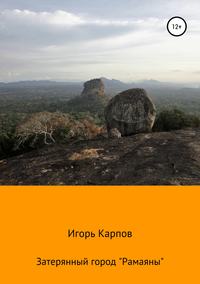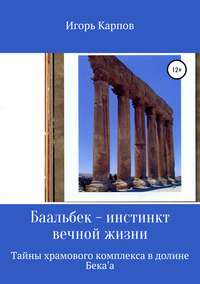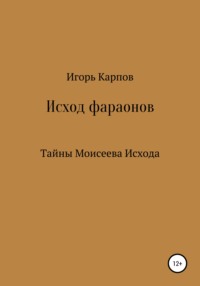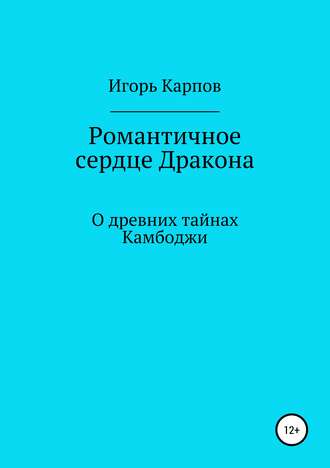 полная версия
полная версияРомантичное сердце Дракона. О древних тайнах Камбоджи

Романтичное Сердце Дракона
Каригор Олегин
РОМАНТИЧНОЕ СЕРДЦЕ ДРАКОНА
Шутка конечно, но моё путешествие в Ангкор могло закончиться, когда я одной ногой почти что переступил его порог.
И виной всему не погодные условия, не политические катаклизмы, не проблемы со здоровьем (слава богу!), а стюардессы… да-да! именно стюардессы региональной сингапурской авиакомпании SilkAir.
Рейсом этой авиакомпании я летел из Сингапура в Сием-Риеп на севере Камбоджи, в окрестностях которого среди джунглей как раз и попрятались храмы Ангкора. Их невозможно описать словами поэта – их надо видеть глазами художника и прочувствовать сознанием мистика. А художниками и мистиками, пусть и ненадолго, здесь становятся все поголовно, едва оказываются в окружении фантасмагорических сооружений и причудливых развалин. Безусловно, Ангкор возводился под влиянием гениальной творческой идеи, но такое впечатление, что и разрушался он естественным образом по её же воле…
Но причём тут стюардессы?.. Просто шок от их появления в салоне самолёта я испытал не меньший, нежели чуть позже – от созерцания совершенных по форме архитектурных творений Ангкора. Когда они вошли в салон самолёта и, качая бёдрами, поплыли по узкому проходу, словно топ-модели по подиуму, в ярких салатового цвета приталенных платьях от Givenchy, я понял, что пропал…
Когда через два часа мы приземлились в Сием-Реапе первой моей мыслью было, что я лечу дальше, неважно куда, лишь бы не покидать общество обходительных смуглых узкоглазых красавиц, прямо-таки настоящих мифических апсар во плоти и крови. В древних сказаниях красота апсар (ведь они также появились из пены морской, как и греческая Афродита), их пение, танцы приводили в восторг весь пантеон восточных небожителей. Огромным усилием воли я заставил себя покинуть борт самолёта, а спустя какое-то время (да простят меня стильные девчонки-стюардессы) нисколько не пожалел об этом…
Точнее, я даже вспомнил про них, когда созерцал барельефы с изображением танцующих божественных красавиц перед входом в Байон – одного из самых фантастических храмов Ангкора. Вспомнил и тут же забыл, едва соприкоснулся взглядом с первым же, попавшимся на глаза, каменным ликом…
Таков Ангкор, да, наверное, и не только Ангкор – такова Камбоджа – здесь всё повергает то в особо возвышенный, то в умилительный восторг.
Взять хотя бы даже не памятники, а детишек, что попрошайничают, облепляя всякого с виду туриста галдящими и ноющими кучками. Немытые, нечесаные, в драной одежде, однако личиками своими и особенно глазёнками – ну никакие Барби с Кеном и близко не стояли!..
Окружённый со всех сторон одной такой кучкой, аккурат перед входом в Ангкор-Тхом – столицу великой кхмерской империи во времена Джаявармана VII – легендарного короля-строителя (достроился до такой степени, что столица стала последней, а он – последним строителем в истории Ангкора), медленно пробираясь сквозь дёргающих меня за руки, за ноги, чуть ли не карабкающихся мне на спину ребятишек, я в один момент повёл себя как слон в посудной лавке, и вот результат – маленькая девчушка кулачком одной руки трёт глаза, всхлипывает, готовая разреветься, а другой – натирает ушибленную коленку. Выражение лица такое, что каждому стороннему наблюдателю тут же приспичит умереть от горя. Уж не знаю, я ли её уронил, или её толкнули её же соратники-малолетки по вымогательскому цеху, однако, посмотрев на неё, приспичило умереть и мне. И чтобы не делать этого хотя бы до той поры, пока я не познакомлюсь с Ангкором, я полез в карман, достал долларовую купюру, потом глянул на шмыгающую носом девчушку – мне этого показалось мало, полез снова – достал ещё одну, снова глянул на девчушку и мне стало за себя стыдно. Я опять запустил руку в карман, достал пять долларов (по камбоджийским меркам – очень приличная сумма), свернул их трубочкой и с виноватой улыбкой сунул ей в ладошку. Судя по выражению лица девчушки, достоинство банкноты она не оценила в силу своего малого роста, она так и стояла, глядя в никуда и натирая коленку, а вот среди её ватаги нашлись ребята покрупнее, которые сразу смекнули в чём дело. Они бросились к ней с мыслью, видимо, отобрать драгоценную добычу, но я сурово цыкнул на них, да и у девчушки среди своих нашлась защита. Спустя четверть минуты, по пути в Ангкор-Тхом, я услышал новый галдёж и обернулся. И мне показалось…, нет, я думаю, всё-таки показалось, что мою недавнюю плаксу «затоптала» в очередной раз какая-то пожилая пара и теперь они, растерянные, лихорадочно шарили по карманам в поисках отступного – лишь бы не умереть от горя…
Ангкор Тхом имеет форму квадрата и окружён по периметру восьметровой стеной. Длина каждой стороны – около трёх километров. К последней столице кхмерской империи с четырёх сторон ведут дороги, ориентированные по странам света. В конечном итоге, они упираются в легендарный Байон, расположенный в самом центре Ангкор-Тхома. Пройти в бывшую столицу можно через высокие и узкие ворота, увенчанные сверху четырьмя ликами, какие чуть позже я увижу в самом Байоне, также глядящие строго на север, юг, восток и запад. Та пара ликов, что смотрит вперёд-взад по направлению дороги, по которой ты заходишь или выходишь из города, напоминает двуликого Януса. Лик, что встречает тебя на входе кривит губы в загадочной усмешке, говоря как бы «Добро пожаловать в лучший из миров!», а тот, что провожает тебя обратно с противоположной стороны ворот (или, напротив, сверлит взглядом твой затылок, когда ты уже вошёл) – зловеще хмурится и талдычит своё: «Ступай в ад, откуда пришёл!» – это для тех, кто покидает Ангкор-Тхом; вошедшим же стреляет в спину другой заготовкой: «Думаешь, попал в рай?.. Ну-ну…»
Видать, последняя фраза более правильная. Поскольку первое что я увидел, едва пересёк ворота – это сидящая на обочине небольшая группа людей, этакий «надежды маленький оркестрик», как я их сначала обозвал, поскольку они исполняли какую-то незнакомую, очень заунывную и пронзительную мелодию на местных музыкальных инструментах. Подойдя поближе я взял свои слова обратно. На небольшом плакате, от руки было нацарапано по-английски: «Жертвы противопехотных мин», а сами музыканты все до единого были жуткими калеками – у кого-то вместо руки или ноги торчала культя, у кого-то их было две, у кого-то не было чуть ли половины туловища, но все они, с выражениями невыносимой муки на лицах, иступлённо играли свою мелодию, кто чем мог. Наследие долгой, безумной и беспощадной войны давало о себе знать. Даже сейчас, по сто раз перепроверенному Ангкору нехожеными тропами лучше не ходить. Я расстался с ещё одной пятидолларовой купюрой и двинулся дальше.
Мой путь лежал в Байон. Некоторые считают его мистическим центром всего Ангкора. Или сердцем. Другие именуют его сердцем небесного Дракона (Змея, Змеи). Или центром. О небесном Драконе и змеях мы ещё поговорим, но прежде всего Байон – это колдовское очарование каменных ликов.
Вообще, посещение подряд двух храмов – Байона и Та Прома (о нём в самом конце) – неважно, в какой последовательности – сродни прохождению между интеллектуальными Сциллой и Харибдой, есть опасность резкой смены мировоззрения и невозврата в прежний мир.
Ликов в Байоне великое множество – их более двухсот на 54 башнях (на каждой башне по четыре лика, смотрящих на все четыре стороны). С разных высот на тебя взирают гигантские беспощадно насмешливые и причудливые лица – все без исключения толстогубые и широкоротые, но в разрезе глаз наблюдались некоторые отличия. У одних изваяний они были миндалевидные, у других – раскосые. У одной части из них глаза были открыты, другие же, будучи с опущенными веками, холодно пронизывали тебя колющим взглядом невидимого «третьего глаза». Но ощущения, что построены они в древнеегипетском стиле, на который ссылаются некоторые исследователи тайн Ангкора, тем самым намекая на возможные связи между двумя цивилизациями, не складывалось. А вот поверхностная аналогия с гигантскими негроидными головами ольмеков в Центральной Америке почему-то проскользнула. В обоих случаях это были приплюснутые носы, опять-таки миндалевидные или раскосые глаза, и какая-то едва уловимая схожесть в выражениях этих отвердевших лиц на разных концах Света. Словно думали они об одном и том же, пока их запечетлевали в камне… Хотя, всё это глюки, как сказали бы мне сейчас. Но, кстати, ольмекские головы с миндалевидным разрезом глаз очень походили больше на близких к негроидам дравидов, нежели на чистокровных африканцев, а ольмекские головы с раскосыми глазами, хочешь – не хочешь, ну просто вылитые китайцы!.. Впрочем, как и в Ангкоре…
А вообще-то, находиться долгое время под перекрёстным взглядом невесть что думающих про тебя каменных голов, очень тягостно. Настолько, что начинаешь чувствовать себя чуточку «не в себе». Может, это следствие того, что создатель Байона Джаяварман VII сам был одержим манией строительства, а любое творчество – уже помешательство?.. Его строители проложили много дорог, возвели немало общественно полезных зданий, будь то больницы, приюты для бедных, дома для путешественников (сейчас мы называем это отелями), однако по иронии судьбы такая строительная лихорадка окончательно подорвала мощь его империи и после смерти Джаявармана VII она неумолимо и быстро покатилась к своему закату. Вот здесь аналогия с Древним Египтом явно прослеживается. Считается, что IV династия фараонов, точнее трое из неё, Хуфу (Хеопс), Хафра (Хефрен) и Менкаура (Микерин), ответственны за возведение трёх великих пирамид в долине Гиза. После их титанических трудов экономика тогдашнего Египта оказалась сильно подорванной настолько, что фараоны V-й династии ничего не хотели слышать о своих предшественниках и всячески соскабливали их имена со всех памятников. Страна и впрямь балансировала на грани развала, но в итоге устояла (как и пирамиды). А вот древняя Камбоджа после Джаявармана VII, увы, нет. Зато Ангкор остался. Как и память о тех, кто причастен к его созданию…
Кстати тем, кто читал книгу или смотрел мультфильм про Маугли, в Байоне как то легче становится на душе, ибо храм сразу вспоминается в образе затерянного в джунглях города забавных обезьян-бандерлогов. Мне повезло. По прибытии в Сием-Реап, по счастливому стечению обстоятельств я остановился в том же отеле, что и «отец» Маугли – Редъярд Киплинг. Это старинный и аристократичный, выполненный в колониальном стиле Raffles Grand d’Angkor, где дух знаменитого писателя буквально ходит с тобой рука об руку. И не только дух его, Киплинга. Если вам вдруг почудится, что в соседнем кресле, попыхивая трубкой, положив ногу на ногу, и, пристально глядя на вас, сидит не кто иной, как Сомерсет Моэм, можете смело этому верить. Или этот солидный мсье с военной выправкой на диване напротив!.. Да-да, генерал де-Голль собственной персоной – ни больше, ни меньше!.. Однако потом, стряхнув-таки с себя наваждение, не забудьте отнести все эти причуды сознания на близость магического Ангкора, иначе есть опасность, что на вас не так посмотрят те, кто внимает вашим красочным рассказам…
Итак, загадочные лики Байона улыбались мне. В зависимости от настроения, их улыбки можно было воспринять как добродушные или, наоборот, как не предвещающие ничего хорошего. Традиционно считается, что лики Байона изображают одно и то же лицо, а именно самого короля Джаявармана VII и тем символизируют его вездесущность. В принципе верно, особенно, если принять во внимание допущение о разной расовой принадлежности этих ликов. Он тебе и кхмер, он тебе таец, и малаец, и китаец. Налицо единство нации. Об этом же, наверное, говорят и уникальные барельефы Байона со сценками из повседневной жизни. Джаяварман VII после затяжного периода войн стремился вернуть прежний блеск пошатнувшейся империи; на короткое время, связанное с его правлением, ему это удалось, но как последние сполохи только что закатившегося солнца расцвечивают горизонт самыми немыслимыми и фантастическими красками, так и империя Джаявармана VII блеснула феерической архитектурой, а затем надолго погрузила окружающую землю в ночь забвения.
Утверждают также, что Байон это ступенчатая пирамида. Возможно. По-крайней мере, он имеет чёткую трёхуровневую структуру. Первые два содержат галереи с барельефами, а третий – это собственно сами причудливые лики и есть. Над третьим уровнем, в самом центре вздымается круглая башня, также украшенная ликами. Первоначально таких ликов было 8, затем их стало 16. Из-за этого центральная башня считается шестнадцатисторонней, по одному лику на каждую сторону. С числом 8 вроде бы всё понятно, оно характеризует собой восьмиричный путь в буддизме, благодаря которому можно достигнуть нирваны. Зачем пришлось это число удваивать, не совсем ясно. Можно принять во внимание, что в Китае и на Тибете числом 16 обозначают количество ближайших последователей Будды (архатов), сидящих вокруг своего Учителя. В Байоне центральная башня как раз и была предназначена для статуи Будды, а значит 16 ликов вокруг могут оказаться стилизованными изваяниями тех самых шестнадцати архатов! Но так ли это? Исследователи справедливо подчёркивают, что Байон совершенно нетипичен для кхмерского искусства, что, возможно, он является продуктом синтеза различных стилей ангкорской архитектуры, а может и нет. Может просто в нужном месте и в нужное время вспыхнула звезда какого-нибудь «камбоджийского Гауди», возможно, не местного (выходца из Китая, например), гениально всё намешала и гениально вылепила из хаоса нечто совершенное, подобно богу-творцу, чтобы ослепить современников и затем продолжать ослеплять их далёких потомков, попутно давая пищу для умов, как трезвых, так и опьянённых вечным сомнением…
И всё же, как не старался я выглядеть беспристрастным и не поддаваться очарованию сомнительных аналогий, мысли о Древнем Египте и Древней Греции постоянно лезли в голову. Особенно не давал покоя египетский Сфинкс. Едва чуть внимательнее присмотришься к глядящим во все стороны ликам, бац! и ты уже во власти наваждения, будто сотни маленьких сфинксов просвечивают и буравят тебя всепроникающими взорами. А когда бродишь внутри храма, напрочь забываешь, что над тобой раскинулось голубое (или наоборот, затянутое дождевыми облаками) небо; ощущение такое, что ты находишься под давящими сводами мрачного подземного лабиринта и за всеми твоими перемещениями пристально следит немигающий взгляд алчущего твоей плоти критского Минотавра… Но стоит подумать о Маугли и зловещий Минотавр посрамлён! Мысль о нём, словно нить Ариадны вновь выводит тебя на свежий воздух – светит солнце, поют птицы, благоухают тропические деревья и тебе дружелюбно улыбаются много пусть и каменных, но таких добрых лиц!.. Киплинг, ты – гений!..
Кстати, о Космосе. Считается, что Байон символизирует собой индуистские и буддистские представления о Вселенной, со священной горой Меру в центре (той самой круглой башней, предназначенной для статуи Будды). С этим мало кто спорит и думается, вряд ли стоит. Поспорить можно вот с чем, хотя честно, тоже не очень хочется…
Известный исследователь тайн древних цивилизаций англичанин Грэм Хэнкок в своей книге «Зеркало небес» опубликовал интересную гипотезу относительно назначения всего храмового комплекса Ангкор, где Байону была отведена одна из ведущих ролей.
Однажды одному из помощников Хэнкока пришла в голову светлая мысль посмотреть на карту звёздного неба на широте Ангкора на рассвете в день весеннего равноденствия 10 500 года до н.э. (что это за дата такая – чуть позже и очень кратко). К своему удивлению и душещипательной радости первооткрывателя он обнаружил, что храмы Ангкора на земной поверхности воспроизводят с большой степенью точности созвездие Дракона (или Змея) таким, каким оно сверкало на небосводе в ту далёкую эпоху, почти 13 тыс. лет тому назад.
Странное совпадение, право. Официальная история Ангкора начинается в 802 году н.э., когда кхмерский правитель Джаяварман II провозгласил себя королём-богом (Дэвараджой) и началась активная застройка огромнейшей территории, которая длилась до 1220 года, когда умер самый энергичный (и самый последний, как оказалось) венценосный зодчий – Джаяварман VII.
О Джаявармане II известно немного. До сих пор не найдено ни одной записи, сделанной в эпоху его правления (802 – 850 гг н.э.) Все сведения о нём почерпнуты исследователями из текстов, вырезанных на стене одного из храмов лишь через 200 лет после его смерти. Из них мы узнаём, что он какое-то время был в плену на острове Ява, но вернувшись оттуда, начал последовательное и успешное предприятие по укреплению мощи кхмерского государства. Военная экспансия совпала с началом грандиозной строительной компании. Джаяварман II сорок лет (прямо как библейский Моисей!) кружил по территории нынешнего Ангкора, возводя одну столицу за другой, пока, наконец, на холме Пном Кулен не объявил себя Дэвараджой. Этот удивительный культ будет существовать в Камбодже наряду с буддизмом и брахманизмом. Хэнкок сразу усмотрел в этом некий мистический и практический смысл одновременно, словно король составлял топографическую привязку будущих строений Ангкора. Хотя подобному поведению могут найтись и более прозаические объяснения. Например, что Джаяварман II просто искал самое удобное место для столицы с точки зрения снабжения её продовольствием. Или задолго до Николо Макиавелли на практике осуществлял один из принципов, изложенных последним в «Государе»: переносить столицу поближе к покорённым землям, ведь в то время Джаяварман II активно подчинял себе различные мелкие княжества.
Любопытно вот ещё что. Примерно в это же время (и даже чуть раньше) на юго-востоке острова Ява, когда будущий кмерский король-бог Джаяварман II находился там в плену, началось строительство двух потрясающих храмовых комплексов – Прамбанана и Боробудура. Здесь тоже прослеживается некий симбиоз буддизма и брахманизма, поскольку Прамбанан – храм, по преимуществу, индуистский, а Боробудур – буддийский. Скорее всего, Джаяварман не мог не быть свидетелем такого события и кто знает, не явилось ли это толчком его собственным зодческим потугам! Правила тогда на Яве династия Шайлендра, что в переводе с санскрита означает «Царь горы». То же самое понятие заложено и в титул «Дэвараджа», которым окрестил себя Джаяварман II. Интригующих совпадений, разумеется, очень много, чтобы просто так от них отмахнуться.
Опираясь на всё это, смекалистый Хэнкок тут же предположил, что строители Ангкора на протяжении всего этого периода руководствовались в своих действиях каким-то секретным мистическим планом, согласно которому на земной поверхности воспроизводились участки звёздного неба в пресловутую дату 10 500 года до н.э. Тем более подобный прецедент уже имел место, и не где бы то ни было, а именно в Древнем Египте, во времена знаменитой IV династии. С именами трёх фараонов из этой династии – Хуфу (Хеопса), Хефрена (Хафры) и Менкаура (Микерина) – навечно связана тайна строительства трёх великих пирамид в долине Гизы и, возможно, Сфинкса. Правда в Египте это случилось почти тридцатью четырьмя столетиями ранее, примерно в 2550 году до н.э. Но привязка к дате оказалась всё той же – 10 500 год до н.э.
Так что же это за дата такая любопытная?..
В 1993 году бельгийский инженер Роберт Бьювел обнаружил, что три знаменитых пирамиды в долине Гизы практически с точностью воспроизводят положение трёх звёзд Пояса Ориона в одноимённом созвездии. При этом текущая неподалёку река Нил в этом своеобразном отражении звёздного неба на земле олицетворяла мерцающий Млечный Путь. С помощью компьютерных вычислений Бьювел установил, что такое расположение Пояса Ориона относительно Млечного Пути соответствует с известной долей погрешности нашей приставучей дате – 21 марта (день весеннего равноденствия), предрассветный час, 10 500 год (или около того) до н.э.
Хэнкок, разумеется, изрядно покопался в прошлом, чтобы выяснить к чему эту дату можно было бы привязать. И нашёл. Как оказалось, в этот период по всей Земле происходили грандиозные и катастрофические изменения. Бурно заканчивалась эпоха оледенения (плейстоцен) и начиналась новая – голоцен, в которую мы все продолжаем жить и поныне. Естественно, подобные метаморфозы не обходятся без последствий. Полярные ледники таяли, уровень Мирового океана неуклонно повышался и обширные участки суши скрывались под многометровой толщей воды. То, что происходило тогда – кладезь тысяч сюжетов про Всемирный Потоп.
Вот лишь некоторый список «утопленников»:
– не стало сухопутного перешейка, что соединял Чукотку и Аляску (Азию и Америку) и образовался пролив, много позже названный Беринговым;
– большие участки некогда суши теперь держит в своих цепких ледяных объятиях Северный Ледовитый Океан – все полярные острова, в изобилии разбросанные на всем его протяжении по широте, это остатки не ушедших под воду земель, бывших некогда или частью Евразии (от острова Врангеля на востоке до архипелага Шпицберген на западе) или Северной Америки (Канадский Арктический Архипелаг и Гренландия);
– Индонезия, которая являлась тогда чуть ли не отдельным материком (не это ли загадочный Континент Му?) – теперь же она представляет собой разбившуюся детскую игрушку-калейдоскоп с рассыпанными на полу островами-«стекляшками»;
– Темза, доселе скромно служившая притоком европейского Рейна, получила независимость и превратилась в чисто английскую реку, поскольку посуху из Дувра в Кале было уже не перебраться – разлившееся Северное море отделило Британские острова от Европы.
Впрочем, Дувра и Кале тогда ещё не было, а вот человек разумный (homo sapience sapience или кроманьонец) уже был, активно размножался, расселялся (где пешком, где на лодках, где на досках для сёрфинга), уже проявлял зачатки земледелия, оставлял граффити в пещерах, совершал ритуальные захоронения (а значит, во что-то уже верил), поклонялся женщине, начинал строить осёдлые поселения и обносить их стенами, изобретал глиняную посуду, добивал последних мамонтов, неандертальцев и вовсю воевал с себе подобными за место под солнцем. Да, кстати, и при этом он не забывал смотреть поэтическим оком на звёздное небо и сочинять красочные истории, в том числе про Всемирный Потоп. А ещё заниматься чем-то вроде науки, астрономией-астрологией, именно так, поскольку в те далёкие времена разодрать эти две дисциплины о звёздном небе, было невозможно. Так что поэзия и эта почти-наука шли рука об руку друг с другом – и та и другая помогала познавать и приспосабливать окружающий мир под свои нужды.
Но начнём потихоньку возвращаться в Камбоджу. Здесь, хоть и влажные тропики и в сезон дождей хляби небесные не хуже Ноевых, однако по земле можно ходить всегда (или почти всегда). Но причём тут сомнительные параллели между Древним Египтом и средневековым кхмерским королевством с подстановкой какой-то не менее сомнительной даты?..
Попробуем прояснить ситуацию, однако при этом не будем забывать изречение «дружища Мюллера» из «Семнадцати мгновений весны» про то, что «ясность – это одна из форм полного тумана».
Итак, первая из них: помнится, чуть выше, мы уже отмечали, что правитель Камбоджи Джаяварман II, прежде чем дать отмашку на начало самой грандиозной стройки конца первого тысячелетия н.э., провозгласил себя королём-богом. Но воплощениями богов на земле, теми же правителями-богами, являлись и древнеегипетские фараоны!
Вторая аналогия: Орион был центральным созвездием в древнеегипетском культе светил, ибо воплощал в себе наиболее почитаемого в Древнем Египте бога Осириса. И что интересно, во времена фараонов-строителей пирамид небесный полюс отмечала вовсе не Полярная звезда, как сейчас, ею была Альфа Дракона – созвездие, очертания которого, как считает Грэм Хэнкок, воспроизводят на земле храмы Ангкора! А сам звёздный Дракон (или Змей) был центральным созвездием в культе светил на Востоке, том Востоке, который мы связываем с влиянием двух великих цивилизаций прошлого – Индии и Китая.
Древние египтяне (равно как и их боги) змей не любили и всячески старались с ними бороться не на жизнь, а на смерть. Достаточно сказать, что главным врагом бога солнца Ра (или Ре) был гигантский змей Апоп. Если в сказке Корнея Чуковского солнце проглатывает крокодил, то по представлениям древних египтян каждый вечер это делал коварный змей Апоп, живущий в подземном мире. И всякий раз после захода солнца, под покровом ночи, Ра сражался с Апопом в этом подземном мире за солнечную независимость и всякий раз выходил из этой схватки победителем. Он разрубал Апопа на несколько кусков и выпускал солнце на волю. Так в Древнем Египте наступало утро. И пока солнце бодро и весело катилось по голубому небу (а вернее, это сам Ра плыл по нему в Солнечной Ладье), упрямый Апоп снова готовился к очередной битве, собирал воедино своё порубленное тело и как только закатное солнце касалось западного края горизонта, тут же ненасытно хватал его. Так в Древнем Египте наступала ночь. И всё повторялось…