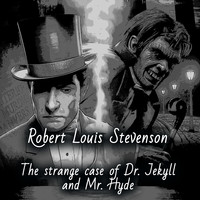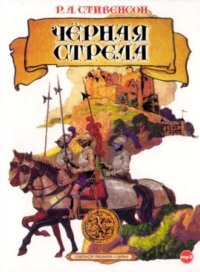полная версия
полная версияСтранная история доктора Джекиля и мистера Хайда
– А больше ничего не слышится? – спросил он.
Пуль кивнул головой.
– Раз, – сказал он, – раз там плакали.
– Плакали? Как так? – сказал адвокат, почувствовав смертельный холод ужаса.
– Кто-то плакал в кабинете, плакал как женщина или как погибшая душа, – ответил дворецкий, – и мне было так тяжело, что я чуть-чуть было сам не зарыдал.
Назначенные десять минут подошли к концу. Пуль вынул топор из-под груды соломы и поставил свечу на ближайший стол. Пуль и Утерсон, задыхаясь, подошли к двери, из-за которой по-прежнему слышались шаги, то удалявшиеся, то подходившие ближе и странно звучавшие в ночной тишине.
– Джекиль, – громко крикнул Утерсон, – мне хочется тебя видеть! – Он подождал несколько секунд, но ответа не последовало. – Предупреждаю тебя, у нас появились различные подозрения; я должен тебя увидеть и увижу, если не с твоего согласия, то силой!
– Утерсон, – ответил голос, – молю пощады во имя Бога!
– А, это голос не Джекиля, а Хайда! – вскрикнул адвокат. – Ломайте дверь, Пуль!
Пуль взмахнул топором. Все здание содрогнулось от удара, а красная дверь подпрыгнула на петлях и на замке. Из кабинета раздался вопль животного ужаса. Топор работал, доски двери расщеплялись, а дверная рама вздрагивала. Четыре раза ударил топор, но дерево было крепко, а петли сделаны в отличной мастерской. Только после пятого удара замок с шумом сломался, и изуродованная дверь упала на ковер кабинета.
Утерсон и Пуль, сами испуганные поднятым ими шумом и внезапно наступившей тишиной, немного отступили и смотрели в открывшуюся комнату. Перед ними был кабинет, освещенный мягким светом лапмы; в камине пылал и потрескивал уголь; котелок с водой пел свою однообразную песенку; несколько ящиков стола остались незадвинутыми; на столе лежали аккуратно сложенные бумаги; близ огня виднелись принадлежности для чая; словом, каждый сказал бы, что этот кабинет – самая мирная комната во всем Лондоне, и не будь в ней нескольких шкафов, полных химическими принадлежностями, самая обыкновенная.
Посреди кабинета ничком лежало тело человека, сведенное судорогой, и еще вздрагивало. Утерсон и Пуль подошли к нему на цыпочках, перевернули на спину и увидели лицо Эдуарда Хайда. Он был одет в слишком широкое платье доктора; мускулы его лица еще вздрагивали, но жизнь уже покинула его. Раздавленный пузырек в руке мертвого и сильный запах, стоявший в воздухе, сказали Утерсону, что перед ним тело самоубийцы.
– Мы пришли слишком поздно, – мрачно заметил адвокат, – не в наших силах осудить или помиловать его. Хайд убил себя, и нам остается только найти тело вашего господина.
Большую часть старого здания наполняли анатомический театр и кабинет. Почти весь нижний этаж был занят театром, а верхний кабинетом. Коридор соединял зал лаборатории с дверью, выходившей на глухую улицу, кабинет же сообщался с коридором посредством второй лестницы. Кроме того, в мрачном строении было несколько темных чуланов и большой подвал. Утерсон и Пуль внимательно осмотрели все закоулки. В чуланы даже не стоило входить, потому что все они были пусты, а по тому количеству пыли, которая сыпалась с их дверей, было ясно, что они давно не отпирались. Подвал был завален старым хламом, вероятно, оставшимся со времени предшественника Джекиля, хирурга. Едва Пуль и Утерсон отворили дверь в него, как поняли, что искать тут нечего; перед ними упала паутина, которая, очевидно, в течение многих лет занавешивала вход в погреб. Нигде не виднелось ни малейших следов живого или мертвого Генри Джекиля.
Пуль топал ногами по плитам коридора.
– Вероятно, он похоронен здесь, – сказал наконец слуга, прислушиваясь к звуку своих шагов.
– Может быть, он бежал, – заметил Утерсон и стал разглядывать дверь на улицу. Она была заперта, а на одной из плит лежал уже заржавленный ключ. – Вряд ли дверь отпиралась этим ключом, – заметил адвокат.
– Этим ключом? – повторил Пуль. – Разве вы не видите, сэр, что он сломан? Его, по-видимому, топтали ногами.
– Да, – продолжал Утерсон, – и в изломах тоже ржавчина.
Оба пугливо переглянулись.
– Я ничего не понимаю, Пуль, – заметил адвокат, – пойдемте назад в кабинет.
Они молча поднялись на лестницу и, пугливо поглядывая на мертвое тело, стали внимательнее прежнего осматривать кабинет. На одном из столов виднелись следы химической работы, аккуратно отвешенные порции какой-то соли, лежавшие на стеклянных блюдечках, точно перед опытом, которого несчастному не дали окончить.
– Вот эти порошки я приносил ему, – сказал Пуль. В эту минуту вода, кипевшая в котле, с шумом перелилась через край.
Они подошли к камину; удобное кресло стояло близ огня; чайные принадлежности были готовы, даже сахар лежал в чашке. На полке стояло несколько книг, одна, раскрытая, лежала рядом с чайным прибором, и Утерсон с изумлением узнал в ней благочестивое сочинение, которое Джекиль так почитал: все поля томика были испещрены самыми богохульственными замечаниями, написанными его собственной рукой!
Наконец, Утерсон и Пуль, осматривая комнату, подошли к большому трюмо и с невольным ужасом заглянули в него. Но оно было повернуто так, что в нем отражался только розовый отсвет солнца, игравший на крыше, пламя, сверкавшее тысячью искр в поверхности стеклянных шкафов, да бледные, испуганные лица Пуля и Утерсона.
– Это зеркало видело странные вещи, сэр, – шепнул Пуль.
– Но все, что происходило, не страннее его присутствия здесь, – тем же тоном ответил адвокат. – Что делал с ним Дж… – он прервал сам, вздрогнул и, поборов свою слабость, договорил: – Зачем оно было нужно Джекилю?
– Да, странно, – подтвердил Пуль.
Они подошли к рабочему столу доктора. Там между множеством бумаг лежал большой конверт, надписанный рукой Джекиля и адресованный на имя Утерсона. Адвокат распечатал пакет, из него выпало несколько бумаг. Первая оказалась завещанием, написанным в таких же эксцентрических выражениях, в которых был составлен и тот документ, который Утерсон вернул доктору несколько месяцев тому назад. Оно тоже говорило о воле Джекиля в случае его смерти или исчезновения, только вместо имени Хайда глубоко пораженный адвокат прочел в нем имя Габриеля-Джона Утерсона. Он взглянул на Пуля, перевел глаза на бумагу и наконец обратил их на тело мертвого злодея.
– У меня голова идет кругом, – сказал адвокат. – Все последние дни завещание было в руках Хайда; он не мог меня любить; он, конечно, выходил из себя от бешенства при виде того, что его лишили наследства, а между тем не уничтожил документа!
Утерсон взял вторую бумагу; это была записка, набросанная почерком доктора с выставленным вверху числом.
– О, Пуль, – вскрикнул адвокат, – Джекиль еще жил сегодня и был здесь! Его не могли уничтожить в такой короткий промежуток времени! Он, конечно, еще жив, он, вероятно, бежал! А зачем? Как? Следует ли нам, в случае его бегства, заявить о самоубийстве мистера Хайда? О, мы обязаны действовать осторожно! Я вижу, что нам легко вовлечь вашего господина в какую-нибудь ужасную катастрофу!
– Почему же вы не прочтете записки, сэр? – спросил Пуль.
– Потому что я боюсь! – торжественно возразил адвокат. – Дай Бог, чтобы мой страх оказался неосновательным! – И он наклонился над листком бумаги и прочитал:
«Мой дорогой Утерсон, когда эта записка будет у тебя в руках, я исчезну, при каких условиях – не могу предвидеть, но мой инстинкт и все обстоятельства моего невероятного положения говорят мне, что конец близок. Когда это свершится, прочитай прежде всего рассказ Ленайона, который он, по его словам, передал тебе; если же ты захочешь узнать большее – прочти исповедь твоего недостойного и несчастного друга
Генри Джекиля».– Там было еще что-то? – спросил Утерсон.
– Вот, сэр, – сказал Пуль и подал адвокату довольно объемистый конверт, запечатанный несколькими печатями.
Адвокат положил его себе в карман.
– Я ничего не скажу об этих бумагах. Если ваш господин умер или бежал, мы, по крайней мере, спасем его честь. Теперь десять часов. Я должен отправиться домой и на свободе прочесть эти документы, но я вернусь еще до полуночи, и тогда мы пошлем за полицией.
Утерсон и Пуль ушли, заперли за собой дверь анатомического зала. Утерсон снова миновал слуг, собравшихся у камина приемной, и вернулся к себе домой, чтобы прочесть два рассказа, которые должны были разъяснить ему тайну Джекиля.
Глава IX
Рассказ Ленайона
«Девятого января, то есть четыре дня тому назад, я получил с вечерней почтой заказное письмо, написанное рукой моего коллеги и старого школьного товарища Генри Джекиля. Это меня сильно удивило; мы с Гарри не переписывались, к тому же накануне я обедал с ним и не мог ожидать, чтобы он написал мне заказное послание. Содержание письма еще больше удивило меня, потому что я прочитал следующее:
„Дорогой Ленайон, ты один из самых старых моих друзей, и хотя мы иногда расходимся в научных вопросах, но наша дружба, по крайней мере, с моей стороны, не уменьшилась. Если бы ты сказал мне: „Джекиль, моя жизнь, моя честь, мой рассудок в твоих руках“, я немедленно пожертвовал бы всем моим состоянием, чтобы только помочь тебе. Ленайон, моя жизнь, моя честь, – все в твоей власти, и если сегодня вечером ты не протянешь мне руку помощи – я погиб. Вероятно, после этого предисловия ты вообразишь, что я попрошу тебя сделать что-нибудь неблаговидное. Суди сам.
Я прошу тебя отложить на сегодняшний вечер все твои дела, даже если бы тебя звали к больному императору. Если твоя коляска в минуту получения письма не будет у твоих дверей, возьми кэб и, захватив для верности это письмо, приезжай ко мне в дом. Дворецкому Пулю даны все указания; он будет ждать тебя со слесарем. Нужно взломать замок двери моего кабинета. Когда это будет сделано, войди в него один, отопри стеклянный шкаф (литера Е) с левой стороны; в случае нужды взломай замок и вынь вместе со всем, что там есть, четвертый ящик сверху или (что то же самое) третий снизу. В моей тревоге я смертельно боюсь дать тебе неверные указания; но даже если я ошибаюсь, ты узнаешь нужный мне ящик потому, что в нем лежит несколько порошков, спрятаны пузырек и записная книга. Я прошу тебя привезти этот ящик со всем, что в нем есть, в Кавэндиш-Сквер.
Это первая часть услуги, перехожу ко второй. Если ты поедешь сейчас же, как только получишь это письмо, ты вернешься домой задолго до полуночи, но я даю тебе так много запасного времени не только из страха, что ты встретишь какие-нибудь препятствия, которых мы не можем ни предвидеть, ни предупредить, но и потому, что для остающейся части задачи гораздо удобнее то время, когда твои слуги уже лягут. В полночь я попрошу тебя быть в твоей комнате для консультаций и собственноручно впустить в дом человека, который придет к тебе от моего имени. Отдай ему мой ящик. Этим окончится твоя роль, и ты заслужишь мою вечную благодарность! Если ты пожелаешь получить объяснение всего, ты через пять минут увидишь, что все, о чем я прошу тебя, крайне важно, что, пренебреги ты хоть одним моим указанием, как бы фантастично оно ни казалось тебе, быть может, на твою совесть падет ответственность за мою смерть или потерю разума.
Хотя я вполне уверен, что ты не откажешь мне, мое сердце замирает, а рука дрожит при одной мысли о возможности отказа. Я теперь в чужом месте, охвачен невыразимым отчаянием, а между тем знаю, что если ты пунктуально исполнишь мою просьбу, все мои неприятности исчезнут, как звуки замолкшего голоса. Не откажи мне, мой милый Ленайон, и спаси твоего друга Г. Д.
P. S. Я уже запечатал письмо, когда моя душа снова содрогнулась от страха. Быть может, почта запоздает, и письмо придет к тебе только завтра утром. В этом случае, Ленайон, исполни мою просьбу в течение дня, когда ты найдешь это наиболее удобным для себя, и опять-таки жди присланного мной человека в двенадцать часов ночи. Однако тогда, может быть, окажется уже поздно, и если ночь пройдет безо всяких событий, знай, что ты никогда больше не увидишь Генри Джекиля“.
Прочитав письмо Джекиля, я решил, что мой коллега сошел с ума, но пока это не было установлено, считал себя обязанным исполнить его просьбу. Чем меньше я понимал, что происходит, тем меньше мог судить о важности требований Джекиля. Вдобавок нельзя было оставить без внимания письмо, написанное в таких выражениях. Итак, я встал из-за стола, нанял извозчика и отправился прямо в дом Джекиля. Дворецкий ждал меня; с той же почтой он получил также заказное письмо, полное наставлений, и послал за слесарем и столяром. Пока мы разговаривали с Пулем, пришли и ремесленники; мы все вместе отправились к анатомическому залу старого доктора Денмана, через который, как ты, вероятно, знаешь, удобно пройти в кабинет. Дверь оказалась крепкой, замок был отличный; столяр сказал, что если ему придется взяться за дело, он проработает долго и сильно попортит дверь; слесарь, казалось, был близок к отчаянию. Но ловкий малый работал удачно, и через два часа дверь распахнулась; шкаф под литерой Е открыли; я вынул выдвижной ящик, прикрыл его соломой, завязал в салфетку и вернулся к себе домой.
Здесь я осмотрел содержимое ящика. Бумажки для соли были приготовлены довольно хорошо, но не с аккуратностью настоящего аптекаря, так что я сейчас же убедился, что их складывал сам Джекиль. Когда я развернул одну из них, то нашел внутри вещество, походившее на простую белую кристаллическую соль. В пузырьке, на который я обратил внимание, виднелась кроваво-красная жидкость, судя по запаху, очень едкая. Мне показалось, что в ней находилась смесь фосфора с каким-то летучим эфиром. Других ингредиентов жидкости я не мог угадать. Книжка представляла собой обыкновенную записную книгу, и в ней заключались только серии чисел месяцев. Вместе они составляли период в несколько лет, но я заметил, что запись внезапно прекратилась около года тому назад. Время от времени против чисел стояла заметка, обыкновенно одно слово: „Двойной“; оно встречалось раз шесть; в самом начале списка стояли слова: „Полная неудача“, с несколькими восклицательными знаками. Хотя все это возбуждало мое любопытство, но не объясняло ничего. Передо мной был пузырек, приблизительно до половины наполненный какой-то настойкой, порошки соли и записи серий опытов, которые не привели (как и многие изыскания Джекиля) ни к какой практической цели. Как могло присутствие этих вещей касаться чести, рассудка или жизни моего легкомысленного друга? Если его посланный мог прийти ко мне, почему он не смел явиться в дом Джекиля? И даже допуская какое-нибудь препятствие, зачем я должен был его принять тайно? Чем больше я думал, тем больше убеждался, что имею дело с душевнобольным и, отпустив своих слуг спать, зарядил револьвер, чтобы в случае нужды защитить себя.
Едва пробило двенадцать часов, как раздался очень тихий стук дверного молотка. Я сам открыл дверь и увидел маленького человека, прятавшегося за колонной портика.
– Вы пришли от доктора Джекиля? – спросил я.
Он смущенным жестом ответил мне утвердительно, и когда я предложил ему войти в дом, бросил пытливый и испуганный взгляд в темноту. Невдалеке виднелась фигура полицейского, который подходил с открытым стеклом своего фонарика. Мне показалось, что при виде его мой гость вздрогнул и быстро вошел в дом.
Сознаюсь, эти подробности поразили меня неприятным образом. Когда я ввел незнакомца в ярко освещенную комнату для консультации, я положил руку на револьвер. Наконец мне удалось разглядеть его. Я видел его, наверное, в первый раз. Он, как я уже сказал, был очень мал ростом; кроме того, меня поразила его фигура, в которой замечалось необычайное соединение большой физической силы с видимой слабостью сложения, и странное беспокойство, вызываемое его присутствием. Это тревожное чувство походило на начало оцепенения и сопровождалось ослаблением пульса. Тогда я решил, что все это – следствие субъективного отвращения, внушаемого его наружностью, и только удивлялся остроте симптомов. Теперь я думаю, что причина неприятного ощущения, производимого им, глубже, что она кроется в натуре этого человека и зиждется на гораздо более благородном основании, нежели принцип ненависти.
Эта личность, которая с первой же минуты внушила мне нечто такое, что я могу назвать только смесью отвращения с любопытством, была одета в костюм, который сделал бы смешным всякого другого: платье незнакомца из очень хорошей, прочной, дорогой материи было чудовищно велико и широко ему; панталоны висели на его ногах, и он подвернул их, чтобы они не волочились по земле; его жилет спускался ниже бедер, а воротничок спадал на плечи. Но странное дело, смешной костюм не вызывал во мне смеха. В самом существе человека, стоявшего передо мной, было что-то ненормальное, неестественное, что-то поразительное и возмутительное, а потому лишняя несообразность даже соответствовала его странной наружности. Заинтересовавшись этим человеком, я заинтересовался и мыслью о том, как он живет, какое занимает общественное положение!
Хотя я употребил столько времени на изложение моих замечений, но в действительности они возникли во мне моментально. Мой гость горел мрачным волнением.
– Вы достали его? – воскликнул он. – Достали?
И его нетерпение было так живо, что он положил свои пальцы ко мне на плечо, пытаясь потрясти меня. Я оттолкнул его, потому что едва он дотронулся до меня, как во мне оледенела кровь.
– Сэр, – сказал я, – вы забыли, что я еще не имею удовольствия знать вас. Не угодно ли вам присесть.
Я сам сел на обычное место, желая подражать моему же собственному обращению с пациентом, насколько это мне позволял ночной час, характер моей тревоги и ужас, внушенный моим гостем.
– Прошу извинения, доктор Ленайон, – довольно вежливо ответил он. – Все, что вы говорите, вполне основательно, мое нетерпение заставило меня забыть о вежливости. Я пришел к вам по поручению вашего коллеги, доктора Джекиля, по важному делу… – он приостановился, приложил руку к горлу, и я понял, что, несмотря на свои сдержанные манеры, он боролся с приступами истерики – и я думал, что ящик…
Я сжалился над ожиданием моего посетителя, да во мне заговорило и мое собственное любопытство.
– Вон он, сэр, – сказал я, указывая на ящик, стоявший на полу за столом и все еще закрытый салфеткой.
Незнакомец бросился к нему, но вдруг остановился и приложил руку к сердцу: я услышал, как заскрипели его зубы от конвульсивного сжатия челюстей. Его лицо было так мертвенно-бледно, что мне стало страшно и за его жизнь, и за его рассудок.
– Успокойтесь, – сказал я.
Он улыбнулся мне страшной улыбкой и с решимостью отчаяния откинул салфетку. При виде содержимого ящика из его груди вырвался такой громкий вздох облегчения, что я изумился. Через минуту он сказал мне голосом, которым уже овладел:
– У вас есть мензурка?
Я встал с некоторым усилием и подал ему градуированный стакан.
Он поблагодарил меня, с улыбкой кивнув мне головой, налил в стаканчик немного красной жидкости и всыпал туда же один из порошков. Микстура, бывшая до сих пор красной, по мере того, как таяли кристаллы, начала делаться ярче; она кипела с шипением, и из нее вырывались маленькие клубы пара. Кипение внезапно прекратилось, и в ту же минуту смесь приняла темно-лиловый цвет, потом стала медленно светлеть и превратилась в жидкость водянисто-зеленого цвета. Мой гость, зорко наблюдавший за этими изменениями, улыбнулся, поставил стаканчик на стол и, обернувшись, пытливо взглянул на меня.
– Теперь, – сказал он, – сговоримся. Будете ли вы благоразумны? Позволите вы мне взять этот стаканчик и без дальнейших объяснений уйти из вашего дома? Или же любопытство имеет над вами слишком большую силу? Подумайте прежде и потом отвечайте, потому что я поступлю, как вы решите. Если вы пожелаете, я оставлю вас ни богаче, ни мудрее прежнего; вы приобретете только сознание, что оказали услугу человеку в смертельной опасности; может быть, это вы сочтете одним из богатств души? Если вы изберете другой образ действий, здесь, в этой комнате, через минуту перед вами откроется новая область знаний, новые пути к славе и могуществу, ваш взгляд будет поражен видом чуда, способного поколебать неверие сатаны.
– Сэр, – сказал я с напускным хладнокровием, – вы говорите загадками и, может быть, сами понимаете, что я слушаю вас с небольшим доверием. Но я так далеко зашел на пути необъяснимых услуг, что должен увидеть конец.
– Прекрасно, – ответил мой гость. – Ленайон, помните ли вы вашу докторскую присягу? То, что случится, – наша профессиональная тайна. Теперь же вы, человек, так долго державшийся узких и материальных взглядов на жизнь, отрицавший достоинства отвлеченных медицинских теорий, смеявшийся над людьми, которые выше вас, смотрите!
Он поднес стакан ко рту и залпом выпил его. Послышался крик; мой гость зашатался, схватился за стол, его глаза налились кровью, из раскрытых губ вырвалось тяжелое дыхание… На моих глазах совершилась страшная перемена: он начал как бы пухнуть, расширяться; его лицо внезапно почернело, а черты точно слились и изменились. Через мгновение я вскочил со стула и отшатнулся к стене, закрывая рукой лицо от свершившегося чуда. Мой ум мутился от ужаса. „О, Боже!“ – простонал я и все повторял: „О, Боже!“. Передо мной стоял, словно в полуобмороке, бледный, измученный Джекиль. Он протягивал вперед руки, точно человек, воскресший из мертвых…
Я не могу заставить себя написать того, что он сказал мне. Я видел то, что видел, слышал то, что слышал, и моя душа глубоко потрясена. Теперь, когда я не вижу его, я спрашиваю сам себя, верю ли я тому, что видел, и не могу ответить. Моя жизнь подорвана в самом своем основании. Я лишился сна; смертельный ужас мучит меня днем и ночью; я чувствую, что дни мои сочтены, что я должен умереть, но я умру не веря. Что касается до нравственного падения, которое этот человек открыл мне со слезами раскаяния, я не могу даже мысленно вспоминать о нем без содрогания. Только одно скажу тебе, Утерсон, и этого (если только ты заставишь себя поверить мне) будет достаточно. По собственному признанию Джекиля, существо, прокравшееся в эту ночь в мой дом, носило фамилию Хайда, и его искали шэ всей стране как убийцу Керью.
Гести Ленайон».Глава X
Полный рассказ Генри Джекиля
«Я родился в 18.. году среди богатства, с прекрасными дарованиями и с наклонностью к науке. Я с юности желал заслужить уважение моих умных и добрых братьев-людей; следовательно, можно было бы предполагать, что во мне крылись богатые данные для достижения почета и отличий. Все худшие из моих проступков явились плодом нетерпеливой жажды жить. Эта жажда сделала многих счастливыми; но я находил, что трудно совмещать страсть к наслаждениям с настоятельной потребностью высоко держать голову и казаться людям более чем серьезным человеком. Вследствие этого я стал скрывать свои развлечения, и к тому времени, когда достиг зрелого возраста, научился смотреть вокруг себя и ценить свое положение в свете. Я уже вел глубоко двойственную жизнь. Многие люди, конечно, даже умышленно выставляли бы на вид те уклонения от благоразумного существования, в которых был повинен я. Но с высоты целей, увлекавших меня, уступки человеческим страстям казались мне постыдными, я скрывал их почти с болезненным стыдом. Таким образом мои стремления, а не глубина проступков, сделали меня тем, чем я был, и разграничили во мне более глубокой бороздой, нежели в других людях, область добра от области зла, составляющие две стороны натуры каждого человека. Все это заставило меня настойчиво размышлять о суровом жизненном законе, который лежит в основании религии и представляет собой один из наиболее обильных источников тревоги. Хотя я действовал глубоко двойственным образом, но не был лицемером. И в том, и в другом случае я поступал вполне искренно. Я не был больше самим собой, когда, отложив всякие стеснения, погружался в разгул, нежели в часы, которые посвящал науке или думал об избавлении людей от горя и страданий. И вот направления моих занятий, которые вели меня к мистицизму и трансцендентальной науке, пролили яркий свет на сознание постоянной борьбы двух моих различных сторон. Каждый день разум и нравственное чувство приближали меня к той истине, неполное открытие которой послужило для меня таким ужасным несчастьем! Я с каждым днем все больше и больше убеждался, что человек не одно существо, а два. Я говорю два, потому что размер моего знания не больше. Другие пойдут по тому же пути, другие превзойдут меня, и я предвижу, что когда-нибудь наука признает человека сложным существом, состоящим из разнообразных, несходных и независимых индивидуумов. Благодаря характеру моей жизни, я шел в одном направлении, и только в одном. Я понял, что с нравственной стороны человек вполне двойствен; я убедился в этом на самом себе. Я убедился, что если из двух натур, боровшихся на арене моего сознания, одну и можно было назвать истинно моей природой, то лишь потому, что они обе неоспоримо и всецело принадлежали мне. С давних пор, даже раньше, чем мои научные открытия дали мне некоторую возможность подобного чуда, я с любовью останавливался на мысли о разъединении разнородных элементов человеческой природы. „Если, – думал я, – каждая из этих натур вселилась бы в отдельную плоть, жизнь освободилась бы от всего, что в ней есть невыносимого; неправедный пошел бы по своей дороге, не стесненный стремлениями и раскаяниями своего более высокого близнеца; праведный спокойнее и увереннее следовал бы по тропе добродетели, с удовольствием творя добро и не подвергаясь стыду и раскаянию, благодаря проступкам, совершенным посторонним ему злым элементом. На несчастье человеческого рода, эти несходные части связаны между собой, и враждующие близнецы вечно борются в истерзанных недрах сознания. Как же разъединить их?“.