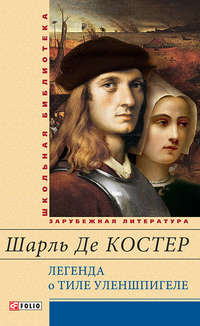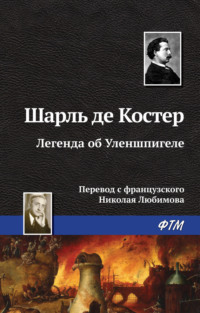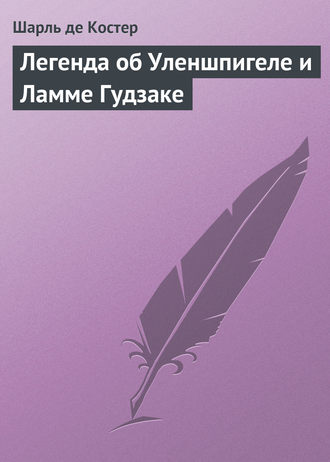 полная версия
полная версияЛегенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке
– Давай я понесу твою рыбу и птицу.
– Неси.
И они пошли по рынку.
– А ведь ты дурак, – вдруг сказал Ламме. – И знаешь почему?
– Почему?
– Носишь рыбу и дичь не в желудке, а в руках.
– Это верно, Ламме. Но с тех пор как у меня нет хлеба, дрозды и смотреть на меня не хотят.
– Наешься дроздов вволю, Уленшпигель, когда будешь служить у меня, если позволит моя стряпуха.
По пути им встретилась очень хорошенькая и милая девушка в шёлковом платье, которая бросила ласковый взгляд на Ламме. Он указал на неё Уленшпигелю.
Вслед за девушкой шёл старик, её отец, и нёс две корзины – одну с дичью, другую с рыбой.
– Вот кого я выбрал себе в жёны, – сказал Ламме.
– Да, – ответил Уленшпигель, – я знаю её: она фламандка из Цоттегема, живёт в улице Винав д'Иль, соседи говорят, что мать вместо неё подметает улицу перед домом, а отец гладит её рубашки.
– Она взглянула на меня, – вдруг обрадовавшись, сказал Ламме, не обращая внимания на слова Уленшпигеля.
Они подошли к дому Ламме, у сводов моста, и постучали в дверь. Им открыла кривая служанка. Уленшпигель увидел, что она стара, длинна, сухопара и сварлива.
– Ла-Санжин, – обратился к ней Ламме, – возьмёшь этого парня в помощники?
– Возьму на пробу.
– Попробуй; пусть узнает блаженство твоей кухни.
Ла-Санжин подала на стол три чёрных колбасы, кружку пива, большой ломоть хлеба.
Пока Уленшпигель ел, Ламме выбрал и для себя колбасу.
– Знаешь, – сказал он, – где обитает наша душа?
– Нет, Ламме.
– В нашем желудке: это она неустанно опустошает его, чтобы вновь ввести в наше тело жизненную силу. Кто лучший спутник нашей жизни? Вкусные и тонкие блюда и доброе маасское вино.
– Да, – сказал Уленшпигель, – колбаса – приятное общество для одинокой души.
– Он хочет ещё, – сказал Ламме, – дай ему ещё чего-нибудь, Ла-Санжин.
Она подала теперь белую колбасу.
Жадно глотая, Ламме впал в задумчивость и сказал:
– Когда я умру, мой желудок умрёт вместе со мной, а там, в чистилище, придётся поститься, и буду я таскать с собой это пустое обвислое брюхо.
– Чёрная была вкуснее, – заметил Уленшпигель.
– Шесть штук съел, довольно с тебя, – заявила Ла-Санжин.
– Здесь, знаешь, тебя будут хорошо кормить, – сказал Ламме, – есть ты будешь то же, что и я.
– Буду иметь в виду, – сказал Уленшпигель.
Всё это привело его в хорошее настроение. Поглощённые колбасы вдохнули в него такую бодрость, что он в этот день вычистил все котлы, сковороды и горшки, и они блестели, как солнце.
Жил он в этом доме привольно, часто наведывался в кухню и погреб, предоставив кошкам чердак. Однажды Ла-Санжин, жаря двух цыплят, приставила его вертеть вертел, пока она сходит на рынок за кореньями для приправы.
Когда цыплята изжарились, Уленшпигель съел одного из них.
Войдя в кухню, Ла-Санжин закричала:
– Здесь были два цыплёнка, где другой?
– Посмотри своим другим глазом, – ответил Уленшпигель, – увидишь обоих.
В бешенстве бросилась она к Ламме с жалобой. Тот сошёл в кухню и обратился к Уленшпигелю:
– Что ж ты издеваешься над моей служанкой? Была ведь пара цыплят.
– Верно, Ламме. Но когда я поступил к тебе, ты сказал, что я буду есть то же, что и ты. Здесь была пара цыплят – одного съел я, другого съешь ты. Моё удовольствие уже прошло, твоё ещё предстоит тебе. Разве тебе не лучше, чем мне?
– Да, – ответил Ламме, смеясь, – делай только всё так, как Ла-Санжин прикажет: тогда придётся тебе делать только половину работы.
– Постараюсь, Ламме, – ответил Уленшпигель.
И всякий раз, как Ла-Санжин что-нибудь ему приказывала, он исполнял только половину. Посылала ли она его принести два ведра воды, он приносил одно. Шёл ли он в погреб нацедить из бочки кружку пива, он выливал по дороге полкружки в свою глотку, и так далее.
Наконец это надоело Ла-Санжин, и она заявила Ламме, что если этот бездельник останется в доме, она сейчас бросает службу.
Ламме спустился к Уленшпигелю.
– Придётся тебе уйти, сын мой, – сказал он, – хотя ты здесь порядочно подкормился. Слышишь, петух кричит: два часа дня – значит, будет дождь. Не хочется мне выгонять тебя из дому в непогоду, но подумай, сын мой: благодаря своим жарким Ла-Санжин – страж моего бытия. Я не могу расстаться с нею, не рискуя жизнью. Ради создателя, сын мой, уходи; возьми эти три флорина и эту связку колбасок, чтобы облегчить себе трудный путь.
И Уленшпигель пошёл удручённый и с раскаянием думал о Ламме и его кухне.
XLIV
Стоял ноябрь в Дамме, как и везде, но зимы не было: ни снега, ни дождя, ни мороза.
Ничем не омрачённое солнце сияло с утра до вечера. Дети катались в пыли по улицам и переулкам. После ужина лавочники, купцы, золотых дел мастера, кузнецы и прочие ремесленники выходили в час отдыха на крылечко и глядели на вечно синий небосвод, на деревья, ещё покрытые зеленью, на аистов на крышах и на ласточек, всё не отлетавших. Розы отцвели в третий раз, и в четвёртый раз на них появились почки; ночи были тёплые, и соловьи заливались безустали. Жители Дамме говорили:
– Зима умерла, сожжём зиму.
И они соорудили громадное чучело с медвежьей мордой, длинной бородой из стружек и косматой гривой из льна, одели чучело в белое платье и торжественно сожгли его.
Клаас хмурился по этому случаю и не радовался ни синему небу, ни ласточкам, не собиравшимся улетать. Ибо никому в Дамме не нужен был уголь – разве только для кухни, для которой были у всех запасы, и никто не покупал у Клааса, а он истратил все свои сбережения на покупку угля.
Так стоял он у своего порога, и, когда свежий ветерок холодил кончик его носа, угольщик говорил:
– Ну, вот пришёл мой заработок.
Но свежий ветерок стихал, небо оставалось синим, листья не хотели падать. Клаас не согласился уступить за полцены свой уголь скупому Грейпстюверу, старшине рыбников. И вскоре в его домике стало нехватать хлеба.
XLV
А король Филипп не страдал от голода и объедался пирожными подле своей супруги Марии Уродливой[74] из королевского дома Тюдоров. Он не любил её, но надеялся, оплодотворив эту хилую женщину, дать английскому народу государя-испанца.
Но на горе себе заключил он этот брак, подобный браку булыжника с горящей головнёй. В одном лишь они всегда были согласны – в истреблении несчастных реформатов: они их жгли и топили сотнями.
Когда Филипп не уезжал из Лондона или не уходил, переодетый, из дворца распутничать в каком-нибудь притоне, час ночного покоя соединял супругов.
Королева Мария в ночной рубахе из фламандского полотна с ирландскими кружевами стояла у супружеской постели, а Филипп рядом с ней, как прямой столб, приглядывался, не видно ли на теле жены признаков близкого материнства; но он ничего не видел, приходил в бешенство и злобно молчал, рассматривая свои ногти.
Бесплодная, похотливая женщина говорила ему страстные слова и, стараясь придать нежное выражение своим глазам, просила бесчувственного Филиппа о любви. Слёзы, крики, мольбы – всё пускала она в ход, чтобы добиться ласки от человека, который не любил её.
Напрасно ломала она руки, бросалась к его ногам, напрасно, чтобы расшевелить его, смеялась и плакала одновременно, точно безумная. Ни смех, ни слёзы не могли смягчить твердыню этого каменного сердца.
Напрасно охватывала она его, точно влюблённая змея, своими худыми руками, напрасно прижимала к своей плоской груди узкую клетку, в которой жила изуродованная душа властелина. Он был недвижен, как пограничный столб.
И она, эта злосчастная дурнушка, старалась очаровать его. Она называла его всеми ласковыми именами, какие дают упоённые страстью женщины своим возлюбленным; Филипп рассматривал свои ногти.
Иногда он отвечал:
– Так и не будет у тебя детей?
Голова Марии падала на грудь.
– Разве я виновата в своём бесплодии?[75] – отвечала она. – Сжалься надо мной: я живу, как вдова.
– Отчего у тебя нет детей? – спрашивал Филипп.
И королева, точно поражённая насмерть, падала на ковёр. Из глаз её лились только слёзы, но она плакала бы кровью, если бы могла, эта несчастная, сладострастная женщина.
Так мстил господь палачам за жертвы, которыми они усеяли Англию.
XLVI
В народе шёл слух, что император Карл собирается лишить монахов принадлежавшего им права наследовать имущество лиц, умерших в монастыре, и что папа этим чрезвычайно недоволен.
Уленшпигель в это время скитался по берегам Мааса и думал о том, что император умеет извлечь из всего выгоду: ибо он наследует имущество и в тех случаях, когда нет других наследников. Уленшпигель сидел на берегу, забросив свои удочки с доброй приманкой, жевал чёрствую корку чёрного хлеба и жалел, что нет бургонского оросить эту сухую закуску. Но не все наши желания сбываются. Он это знал хорошо.
И однако он бросал кусочки хлеба в воду, полагая, что кто не разделяет своей пищи с ближним, тот вовсе недостоин её.
К крошкам хлеба подплыл пескарь; сперва он стал их обнюхивать, потом коснулся их кончиком морды и, наконец, широко раскрыл свою невинную пасть, точно в надежде, что хлеб сам влезет туда. Но пока он смотрел вверх, вдруг стрелой налетела на него коварная щука и разом проглотила.
Так же поступила она с карпом, который, не думая об опасности, ловил на лету мошек. Наевшись досыта, щука неподвижно остановилась в реке, не обращая внимания на рыбью мелкоту, стремглав бросавшуюся во все стороны при виде щуки. Но её спокойная важность была нарушена: вдруг с разинутой пастью бросилась на неё другая щука, голодная и прожорливая. Закипел яростный бой, страшны были раны с обеих сторон, и вода вокруг покраснела от их крови. Поевшая щука не могла справиться с голодной, которая всё отскакивала, разбегалась и, точно пуля, бросалась на противницу. Та разинула пасть, захватила половину головы врага, хотела высвободиться – и не могла: её зубы были загнуты внутрь. И обе отбивались друг от друга, совсем обессилев.
В своей возне они не заметили привязанного к шёлковой леске крючка, который вцепился в плавник сытой щуки; он захватил её, потянул вместе с врагом из воды и без всякого почтения выбросил обеих на траву.
Потроша их, Уленшпигель сказал:
– Милые мои щучки, вы вроде как император и папа, которые стараются слопать друг друга, и не я ли народ, который среди их свары, в час, какой угодно будет назначить господу богу, подцепит обеих крючком.
XLVII
Катлина всё ещё жила в Боргергауте и скиталась по окрестностям, приговаривая:
– Гансик, муж мой, они зажгли огонь на моей голове; проделай дыру, чтобы душа моя могла вырваться наружу. Ах, она стучится там, и каждый удар – точно нож острый.
И Неле ходила за матерью и, сидя подле неё, думала с тоской о своём друге Уленшпигеле.
А Клаас в Дамме попрежнему собирал в вязанки хворост, продавал уголь и часто погружался в глубокую печаль, когда вспоминал о том, что Уленшпигель изгнан и долго-долго ещё не вернётся домой.
Сооткин всё сидела у окна и смотрела, не покажется ли её сын.
А он, находясь в это время в окрестностях Кёльна, вдруг решил, что им овладела склонность к садоводству.
И поступил на службу к Яну де Цуурсмулю, который, будучи предводителем ландскнехтов, только посредством выкупа спасся как-то от виселицы и потому питал непобедимый ужас перед коноплёй, которая на фламандском наречии называлась тогда кеннип.
Однажды Ян де Цуурсмуль, давая Уленшпигелю очередную работу, повёл его на своё поле, и здесь они увидели участок земли, весь поросший зелёной коноплёй.
Ян де Цуурсмуль сказал Уленшпигелю:
– Всякий раз, как увидишь это мерзостное растение, загадь его, ибо оно служит для колесований и виселиц.
– Загажу непременно, – отвечал Уленшпигель.
Однажды, когда Ян де Цуурсмуль сидел за столом с несколькими собутыльниками, повар приказал Уленшпигелю:
– Сходи-ка в погреб и принеси зеннип (то есть горчицы).
Уленшпигель по озорству якобы спутал зеннип и кеннип, нагадил в погребе в горшок с горчицей и, посмеиваясь, принёс к столу.
– Чего смеёшься? – спросил Ян де Цуурсмуль. – Думаешь, наши носы из железа, что ли? Съешь этот зеннип, коли сам его приготовил.
– Предпочёл бы жаркое с корицей, – ответил Уленшпигель.
Ян де Цуурсмуль вскочил, чтобы отколотить его.
– Кто-то нагадил в горшок с горчицей! – закричал он.
– Хозяин, – ответил Уленшпигель, – разве вы забыли, как я шёл за вами к вашему полю, где растёт зеннип. Там, указав мне на коноплю, вы сказали: «Везде, где увидишь это растение, загадь его, ибо оно служит для колесования и виселицы». Я его и загадил, хозяин, загадил и опозорил: не бейте же меня за моё послушание.
– Я сказал кеннип, а не зеннип, – закричал в бешенстве Ян де Цуурсмуль.
– Хозяин, вы сказали зеннип, а не кеннип, – возразил Уленшпигель.
Долго они препирались; Уленшпигель говорил тихо, Ян де Цуурсмуль кричал, как орёл, путая зеннип, кеннип, кемп, земп, точно моток кручёного шёлка.
И собутыльники хохотали, точно черти, пожирающие котлеты из доминиканцев[76] и почки инквизиторов.
Но Уленшпигель потерял службу у Яна де Цуурсмуля.
XLVIII
Неле всё тосковала о своей судьбе и о своей безумной матери.
Уленшпигель служил в это время у портного, который всегда говорил ему:
– Когда делаешь шов, шей плотно, чтоб ничего не было видно.
Уленшпигель сел в бочку и принялся за шитьё.
– Это ещё для чего? – вскричал портной.
– Уж когда шьёшь, сидя в бочке, наверное, ничего не будет видно.
– Садись-ка за стол и делай маленькие стежки, один подле другого, – понял теперь? И сделаешь из этого сукна «волка».
«Волком» в тех местах назывался крестьянский кафтан.
Уленшпигель взял сукно, разрезал его на куски и сделал из них чучело волка.
Увидев это, портной закричал:
– Что ты тут, чорт тебя дери, наделал?
– Волка сделал, – ответил Уленшпигель.
– Каналья! Я приказал, правда, тебе сделать волка, но ведь ты отлично знаешь, что волк – это крестьянский кафтан.
Спустя некоторое время хозяин приказывает ему:
– Перед сном, парень, подкинь-ка рукава к этой куртке.
Уленшпигель повесил куртку на гвоздь и целую ночь бросал в неё рукавами.
На шум пришёл, наконец, портной:
– Негодяй, что ты за новые шутки тут выкидываешь?
– Какие же шутки. Подкидываю рукава, как вы приказали, – да они всё не пристают к куртке.
– В этом нет ничего удивительного, и потому убирайся сейчас из моего дома. Посмотрим, будет ли тебе лучше на улице.
XLIX
Время от времени Неле, поручив Катлину присмотру добрых соседей, сама уходила далеко-далеко: до Антверпена. Она бродила по берегам Шельды и всё искала на барках и по пыльным дорогам, не встретит ли где своего милого друга, Уленшпигеля.
А тот как-то в Гамбурге на рынке среди купцов увидел несколько старых евреев, которые промышляли тем, что давали деньги в рост и торговали старьём.
Уленшпигель тоже захотел заняться торговлей: увидев на земле куски лошадиного навоза, собрал, отнёс на свою квартиру – он ютился в закоулках городского вала – и высушил. Потом он купил шёлка, красного и зелёного, сшил из него мешочки, насыпал навоза, завязал ленточкой – точно они наполнены мускусом.
Сколотив из нескольких дощечек лоток, он подвесил его старой бечёвкой на шее, сложил туда товар и вышел на рынок продавать душистые подушечки. Вечером он освещал свой товар свечкой, прикреплённой посреди лотка.
На вопрос, чем он торгует, он таинственно ответил:
– Скажу вам, только потихоньку.
– Ну? – спрашивали покупатели.
– Это гадальные зёрна, – по ним узнают будущее, они доставлены во Фландрию прямо из Аравии, где их изготовляет великий искусник Абдул-Медил, потомок великого Магомета.
Собрались покупатели и говорили:
– Это турок.
– Нет, это фламандский богомолец, – не слышите разве по его выговору?
Подходили оборванцы к Уленшпигелю и говорили:
– Дай нам этих гадальных зёрен.
– По флорину штука, – отвечал Уленшпигель.
И беднота, грязная и ободранная, печально расходилась со словами:
– Только богатым житьё на этом свете.
Слух о гадальных зёрнах распространился по всему рынку. И обыватели говорили друг другу:
– Тут явился один фламандец с гадальными зёрнами, освящёнными в Иерусалиме на гробе Христа-спасителя. Но, говорят, он их не продаёт.
И люди собирались вокруг Уленшпигеля и просили его продать им гадальные зёрна.
Но он хотел поднять на них цену и отвечал, что они не созрели, и всё посматривал на двух богатых евреев, ходивших по рынку.
– Я хотел бы знать, – спросил у него один купец, – что будет с моим кораблём, который теперь в море?
– Он подымется до небес, если волны будут достаточно высоки, – отвечал Уленшпигель.
Другой, указав на свою хорошенькую дочку, которая при этом покрылась румянцем, спросил:
– Она, конечно, найдёт своё счастье?
– Всякий находит своё счастье там, где прикажет его природа, – ответил Уленшпигель, ибо он видел, что девушка сунула ключ какому-то молодому человеку.
Последний, сияя самодовольством, подошёл к Уленшпигелю:
– Господин купец, позвольте и мне один волшебный мешочек; я хочу узнать, один ли я буду спать эту ночь.
– Говорится так, – отвечал Уленшпигель: – кто сеет рожь соблазна, пожнёт плевелы рогоношения.
Молодой человек вскипел:
– На кого ты намекаешь?
– Зёрна говорят, что ты будешь счастлив в браке и жена не украсит тебя шлемом Вулкана. Знаешь это украшение?
И Уленшпигель продолжал в тоне проповедника:
– Женщина, дающая до брака задаток, всем раздаёт потом свой товар даром.
Девушка, желая выказать свою предусмотрительность, спросила:
– И всё это видно в волшебных зёрнах?
– Там виден и ключ, – шепнул Уленшпигель ей на ухо.
Но молодой человек уже скрылся с ключом.
Вдруг Уленшпигель увидел, как воришка схватил со стойки длинную колбасу и спрятал её себе под плащ. Колбасник не заметил, и вор, очень довольный собой, подошёл к Уленшпигелю с вопросом:
– Что ты продаёшь тут, каркающий пророк?
– Мешочки, которые скажут тебе, что тебя повесят за чрезмерную любовь к колбасе, – ответил Уленшпигель.
Вор бросился бежать, а колбасник кричал:
– Ловите вора!
Но было уже поздно.
Всё это время богатые евреи внимательно слушали разговоры Уленшпигеля и, наконец, подошли:
– Что ты продаёшь, фламандец?
– Волшебные мешочки.
– А в чём их волшебство?
– Они предсказывают будущее, если пососать их.
Евреи пошептались между собой, и старший сказал:
– Ну, так посмотрим в мешочек, когда придёт наш мессия; это будет великим для нас утешением. Купим одну штуку. А что ты хочешь за мешочек?
– Пятьдесят флоринов, – отвечал Уленшпигель. – Если это для вас дорого, проваливайте. Кто не купил поля, тому и навоз ни к чему.
Видя по Уленшпигелю, что он не уступит, они уплатили ему, взяли один мешочек и побежали в свой квартал, где вокруг них собралась целая толпа евреев; те уж услышали, что один из двух стариков купил мешочек, предсказывающий день и час прихода мессии.
Всем хотелось бесплатно пососать мешочек. Но старик, по имени Иегу, купивший мешочек, объявил, что сам хочет пососать.
– Дети Израиля! – возгласил он, держа мешочек в руке. – Христиане издеваются над нами, гонят нас, преследуют позорными кличками. Филистимляне хотят пригнуть нас ниже земли. Они плюют нам в лицо, ибо бог ослабил тетиву наших луков. Долго ли, о бог Авраама, Исаака и Иакова, будет длиться это испытание, ниспосланное нам вместо блаженства, и скоро ли прольётся свет в эту тьму? Скоро ли снизойдёшь ты на землю, божественный мессия? Когда спрячутся христиане в пещеры и ямы из страха пред тобой и твоим грозным явлением в час, когда придёшь ты покарать их?
И евреи кричали:
– Приди, мессия! Соси, Иегу!
Иегу пососал, выблевал и жалостно возопил:
– Истинно вам говорю – это навоз, а фламандский богомолец – мошенник.
Тут евреи набросились на мешочек, разорвали, увидели, что в нём лежит, и в ярости бросились на рынок ловить Уленшпигеля. Но он не ждал их.
L
Один обыватель в Дамме не мог уплатить Клаасу за уголь и потому оставил ему в залог своё лучшее добро: арбалет с двенадцатью отлично выстроганными стрелами, чтобы уж бить без промаха.
В часы досуга Клаас постреливал; не один заяц был им загублен и обращен в жаркое за чрезмерное пристрастие к капусте.
Клаас ел в таких случаях с жадностью, но Сооткин смотрела на безлюдную толпу и говорила:
– Тиль, сын мой, вдыхаешь ли и ты запах подливы. Наверное, голодает где-нибудь. – И, погружённая в свои мысли, она готова была оставить для него вкусный кусочек.
– Если он голоден, – отвечал Клаас, – сам виноват; пусть вернётся, будет есть, как мы.
Клаас держал голубей. Кроме того, он любил щеглов, скворцов, коноплянок и прочих пискунов и визгунов, их щебетание и возню; и он охотно стрелял кобчиков и ястребов, истребляющих эту певчую братию.
Однажды, когда он во дворе отмеривал уголь, вдруг прибежала Сооткин, показывая ему большую птицу, кружащуюся над голубятней.
Клаас схватил арбалет со словами:
– Ну, пусть теперь чорт спасёт господина ястреба.
Он прицелился и следил за движениями птицы. Спускались сумерки, и Клаас мог различить в небе только тёмную точку. Наконец он выстрелил; во двор упал аист.
Это очень смутило Клааса, а Сооткин была огорчена и кричала ему:
– Злой человек, ты убил божью птицу.
Она подняла аиста, увидела, что тот ранен только в крыло, смазала и перевязала его рану и сказала:
– Милый аист, нехорошо, что ты, наш любимец, вздумал парить по поднебесью, точно ястреб, наш враг; так не одну стрелу выпустит народ в ложную цель. Болит у тебя крылышко, аист милый? Как терпеливо ты переносишь мои заботы. Видно, ты знаешь, что наши руки – руки друга.
Оправившись, аист ел, что ему хотелось; особенно любил он рыбу, которую Клаас ловил для него в канале. И всякий раз, когда аист видел его возвращение, он широко разевал свой клюв.
Аист бегал за Клаасом как собачонка, но ещё больше любил оставаться в кухне, грелся у огня и колотил Сооткин, хлопотавшую у печки, по животу, как бы спрашивая: «Нет ли чего для меня?»
И было так забавно видеть, как важно расхаживает по домику на своих длинных ногах этот вестник счастья.
LI
Но вновь вернулись тяжёлые дни; печально и одиноко работал Клаас в поле, ибо больше там не было работы. Сидя дома одна, Сооткин плакала, чтобы еда не опротивела мужу, придумывала разные приправы к бобам, которые приходилось есть изо дня в день. При муже она пела и смеялась, стараясь разогнать тоску, а аист стоял подле неё на одной ноге, уткнув голову под крыло.
Перед домом остановился всадник; он был в чёрной одежде, очень худой, а лицо его было печально.
– Есть кто-нибудь в доме? – спросил он.
– Бог да благословит вашу мрачную милость, – ответила Сооткин. – Что ж я, призрак, что ли, что вы, видя меня здесь, спрашиваете, есть ли кто в доме?
– Где твой отец? – спросил всадник.
– Если это моего отца зовут Клаасом, то он там, сеет хлеб; там и найдёшь его.
Всадник уехал. И Сооткин печально пошла за хлебом, чтобы в шестой уже раз взять у булочника в долг. Вернувшись с пустыми руками, она была изумлена, увидев, что Клаас едет с поля с победоносным, сияющим лицом на коне чёрного человека, а тот идёт с ним рядом и ведёт коня под уздцы. Клаас гордо прижимал рукой к бедру кожаную, видимо, туго набитую сумку.
Сойдя с коня, он обнял чёрного человека, похлопал его по плечу и, встряхнув сумку, воскликнул:
– Да здравствует мой брат Иост, добрый отшельник! Сохрани его господь в радости, в сытости, в весельи и здоровьи! Иост благословенный, Иост щедрый, Иост сытно питающий! Аист не солгал.
И он положил сумку на стол.
На это Сооткин жалобно сказала:
– Муж, у нас сегодня есть нечего: булочник не дал в долг хлеба.
– Хлеба? – воскликнул Клаас, раскрывая сумку, из которой хлынуло на стол золото. – Хлеба? Вот тебе хлеб, вот масло, мясо, вино, пиво! Вот ветчина, мозговые кости, дрозды, каплуны, паштеты из цапли, лакомства, как у самых важных господ, вот бочка пива, вот бочонки вина! Где булочник, который нам откажет в хлебе? Болван! Ведь мы ничего не будем покупать у него.
– Но, милый, – сказала ошеломлённая Сооткин.
– Ну, слушай и радуйся, – продолжал Клаас: – Катлина не осталась в Антверпене ждать, пока кончится срок её изгнания. Неле перебралась с ней в Мейборг, весь путь они сделали пешком. Здесь Неле рассказала моему брату Иосту, что, несмотря на нашу тяжёлую работу, мы часто живём впроголодь. Как мне сообщил этот почтенный посланец, – и Клаас указал на чёрного всадника, – Иост выступил из святой римской церкви и предался лютеровой ереси.