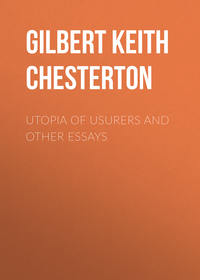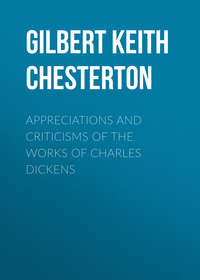Полная версия
Возвращение Дон Кихота

Гилберт Честертон
Возвращение Дон Кихота
Глава I
Выродок
Зала Сивудского аббатства была залита солнцем, ибо стены ее являли почти сплошной ряд окон, выходящих в сад, уступами спускающийся к парку и освещенный чистым утренним светом. Оливия Эшли и Дуглас Мэррел, почему-то прозванный Мартышкой, спешили использовать свет для живописи, она – для очень мелкой, он – для размашистой. Оливия тщательно выписывала нежные тона, подражая заставкам старинных книг, которые очень любила, как и вообще любила старину, хотя представляла ее себе довольно смутно. Мэррел, верный современности, обмакивал в ведра с яркими красками огромные, как швабра, кисти и ударял ими по холсту, которому предстояло стать задником любительского спектакля. Ни он, ни она рисовать не умели, и знали это, но она хотя бы старалась, а он – нет.
– Вот вы говорите, диссонансы, – рассуждал Мэррел почти виновато, ибо Оливия не отличалась благодушием. – А ваша манера сужает кругозор. В конце концов, задник – та же заставка под микроскопом.
– Ненавижу микроскопы, – отрезала Оливия.
– Однако вам без них не обойтись, – возразил Мэррел. – Для такой мелкой работы вставляют в глаз лупу. Надеюсь, вы до этого не дойдете. Лупа вам не к лицу.
С этим трудно было спорить. Оливия Эшли была хрупкой девушкой с тонким лицом, а изысканное изящество ее зеленого платья отвечало кропотливой строгости занятий. Несмотря на свою молодость, она немного напоминала старую деву. Рядом с Мэррелом валялись тряпки, клочки бумаги и ослепительные образцы неудач, но ее краски и кисточки были разложены в идеальном порядке. Не для нее вкладывали наставления в коробки с акварелью, и не ей приходилось говорить, что кисточку не суют в рот.
– Вы меня не поняли, – сказала она. – Вся ваша наука, весь этот нынешний стиль уродуют и людей, и вещи. Смотреть в микроскоп – все равно что смотреть в сточную яму. Я вообще не хочу смотреть вниз, оттого я и люблю готику. Там все линии стремятся ввысь и указывают на небо.
– Указывать невежливо, – сказал Мэррел. – И потом, могли бы положиться на нас, небо и так видно.
– Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, – отвечала Оливия, трудясь над рисунком. – Самая суть средневековых людей выразилась в их соборах, в острых сводах.
– И в острых копьях, – кивнул Мэррел. – Если вы что-нибудь делали не так, вас протыкали насквозь. Чересчур остро на мой вкус. Острей остроты.
– Они сами кололи друг друга, – возразила Оливия. – Они не сидели в креслах, пока ирландец бьет чернокожего. Ни за что не пошла бы на бокс! А дамой на турнире стала бы…
– Вы были бы дамой, но я не был бы рыцарем, – печально сказал Мэррел. – Не судьба. Родись я королем, меня утопили бы в бочке. Нет, я родился бы крепостным, или как их там… А может, прокаженным… В общем, кем-нибудь таким, средневековым. Только бы я сунулся в тринадцатый век, меня приставили бы главным прокаженным к королю, и я глядел бы в церковь через такое окошечко, как на вашей картинке.
– Сейчас вы туда вообще не заглядываете, – заметила Оливия.
– Предоставляю это вам, – сказал он и окунул кисть в краску.
Писал он тронный зал Ричарда I,[1] используя для этого, к ужасу Оливии, лиловые, багровые и малиновые тона. Ужасаться она была вправе, ибо сама выбрала сюжет и написала пьесу, хотя ее и сбивали более бойкие помощники. Речь в этой пьесе шла о трубадуре, который пел песни и Львиному Сердцу, и многим другим, включая дочь здешнего сеньора, увлекавшуюся любительским театром. Высокородный Дуглас Мэррел легко относился к нынешним неудачам, поскольку проваливался и на других поприщах. Знал он очень много, не преуспел ни в чем. Особенно не повезло ему в политике. Когда-то его прочили в лидеры какой-то партии, но в решительный момент он не уловил связи между налогом на лесные заповедники и применением в Индии карабинов старого образца, вследствие чего племянник эльзасского ростовщика, яснее представлявший себе, в чем дело, его обошел. С тех пор он выказывал любовь к дурному обществу, которая спасла стольких аристократов от беды, а нашу страну – от гибели. Любовь эта отразилась на его одежде и манерах – он стал небрежным и грубоватым, словно нерадивый конюх. Его светлые волосы начинали седеть, но он был еще молод, хотя и намного старше своей собеседницы. Лицо его – простое, но не обыденное – почти всегда казалось печальным, и это было смешно, особенно – в сочетании с галстуками, почти такими же яркими, как его краски.
– У меня негритянский вкус, – сообщил он, делая огромный багровый мазок. – Смешанные и серые тона, которые так ценят мистики, наводят на меня их любимую тоску. Вот говорят, что надо возродить все кельтское. А почему не эфиопское? В банджо больше того-сего, чем в старинной лютне. Какой исторический деятель сравнится с Туссеном Лувертюром[2] или Букером Вашингтоном?[3] Какой литературный герой – с дядей Томом[4] и дядюшкой Римусом?[5] Франты хоть завтра станут чернить себе лица, как пудрили когда-то волосы. Да, я начинаю видеть смысл в моей растраченной жизни. Мое призвание – негритянский оркестр на пляже. В пошлости столько хорошего… Как вы думаете?
Оливия не отвечала, словно и не слышала. Она бывала язвительной, но когда становилась серьезной, лицо ее казалось совсем детским. Тонкий профиль и полуоткрытые губы напоминали не просто ребенка, а заблудившуюся сиротку.
– Я помню негра на старинном рисунке, – наконец проговорила она. – Волхва в золотой короне. Сам он был черен, но одежда его горела как пламя. Видите, и с негром, и с яркими цветами не так уж все просто. Такой краски больше нет, хотя я помню людей, пытавшихся ее сделать. Секрет утерян, как секрет цветного стекла. И золото уже не то. Вчера в библиотеке я видела старый требник. Вы знаете, что тогда писали золотом Божье имя? Теперь золотили бы только слово «золото».
После этой речи оба они молчали и работали, пока где-то в коридорах не раздался властный и громкий крик: «Мартышка!» Мэррел кротко терпел это прозвище, но его немного коробило, когда так выражался Джулиан Арчер. Дело было не в зависти, хотя Арчер, не в пример ему, повсюду преуспевал. Между простотой и грубостью есть тонкая грань, которую чувствуют люди вроде Мэррела при всем их негритянском вкусе. В Оксфорде Мэррел выбрасывал в окошко только близких друзей.
Джулиан Арчер был одним из тех, кто поспевает всюду и почему-то всюду нужен. Он не был глуп, никого не обманывал, не лез вперед и оправдывал доверие, когда ему буквально навязывали какое-нибудь дело. Но люди потоньше не могли понять, почему обращались к нему, а не к другому. Когда журнал устраивал дискуссию на тему «Можно ли есть мясо?», высказаться просили Бернарда Шоу, доктора Сэлиби, лорда Даусона[6] и Джулиана Арчера. Когда обсуждали проект национального театра или памятника Шекспиру, речи говорили Виола Три, сэр Артур Пинеро,[7] Каминc Кэрр[8] и Джулиан Арчер. Когда выпускали сборник статей о загробной жизни, в нем выражали свое мнение сэр Оливер Лодж,[9] Мэри Корелли,[10] Джозеф Маккейб[11] и Джулиан Арчер. Он был членом парламента и многих других клубов. Он написал исторический роман, он считался блестящим актером, так что именно ему и полагалось играть главную роль в пьесе «Трубадур Блондель».[12] В том, что он делал, не было ничего дурного или странного. Его книга о битве при Азенкуре[13] была вполне хороша, если рассматривать ее как современную историческую повесть, то есть – как приключения школьника на маскараде. И мясо, и бессмертие души он снисходительно допускал. Но свои умеренные мнения он высказывал громко и властно, тем звучным голосом, который сейчас гудел в коридоре. Он был из тех, кто способен выдержать молчание, повисшее после сказанной вслух глупости. Зычный голос повсюду предшествовал ему, как и доброе имя, и фотографии в газетах, запечатлевшие темные кудри и смелое, красивое лицо. Мисс Эшли как-то сказала, что он похож на тенора. Мэррел заметил на это, что голос у него погуще.
Джулиан Арчер появился в виде трубадура, если не считать телеграммы, которую он держал. Он репетировал и раскраснелся от воодушевления; хотя телеграмма, по-видимому, несколько сбила его.
– Нет, вы подумайте, – сказал он. – Брейнтри не хочет играть.
– Что ж, – сказал Мэррел, продолжая трудиться. – Я и не думал, что он захочет.
– Конечно, глупо обращаться к такому типу, – сказал Арчер, – но больше никого нет. Я говорил Сивуду, глупо это затевать, когда все разъехались. Брейнтри просто знакомый… Не пойму, как он и этого добился.
– По ошибке, я думаю, – сказал Мэррел. – Сивуд слышал, что он представляет в парламенте какие-то союзы, и позвал его. Когда обнаружилось, что Брейнтри представляет профсоюзы, он удивился, но не поднимать же скандала. Вероятно, он и сам толком не знает, что это такое.
– А вы знаете? – спросила Оливия.
– Этого не знает никто, – отвечал Мэррел. – А какие-то союзы я сам когда-то представлял.
– Я бы не стал отворачиваться от человека за то, что он социалист, – возгласил свободомыслящий Арчер. – Ведь были же… – и он замолк, пытаясь припомнить примеры.
– Он не социалист, – бесстрастно уточнил Мэррел. – Он из себя выходит, когда его назовут социалистом. Он синдикалист.
– А это еще хуже? – простодушно спросила Оливия.
– Все мы интересуемся социальными вопросами и хотим, чтобы жизнь стала лучше, – туманно сказал Арчер. – Но нельзя защищать человека, который натравливает класс на класс, толкует о ручном труде и всяких немыслимых утопиях. Я лично считаю, что капитал накладывает обязанности, хотя и дает…
– Ну, – перебил его Мэррел, – тут у меня свое мнение. Посмотрите, я работаю руками.
– Во всяком случае, играть он не будет, – повторил Арчер. – Надо кого-нибудь найти. Роль маленькая, второй трубадур, с ней всякий справится, только бы он был молод. Потому я и подумал о Брейнтри.
– Да, он еще молод, – сказал Мэррел, – и с ним много молодых.
– Ненавижу их всех, – с неожиданным пылом сказала Оливия. – Прежде жаловались, что молодые бунтуют потому, что они романтики. А эти бунтуют потому, что они циники – пошлые, прозаичные, помешанные на технике и деньгах. Хотят создать мир атеистов, а создадут стадо обезьян.
Мэррел помолчал, потом прошел в другой конец залы, к телефону, и набрал какой-то номер. Начался один из тех разговоров, слушая которые ощущаешь себя в полном смысле этого слова полоумным; но сейчас все было ясно из контекста.
– Это вы, Джек? – Да, знаю. Потому и звоню. – Да, да, в Сивуде. – Не могу, вымазался, как индеец. – А, ничего, вы же придете по делу. – Ну, конечно… Какой вы, честное слово… – Да при чем тут принципы? – Я вас не съем, даже не выкрашу. – Ладно.
Он повесил трубку и, насвистывая, вернулся к творчеству.
– Вы знакомы с Брейнтри? – удивилась Оливия.
– Вы же знаете, что я люблю дурное общество, – сказал Мэррел.
– Даже социалистов? – не без возмущения спросил Арчер. – Так и до воров недалеко!
– Вкус к дурному обществу не сделает вором, – сказал Мартышка. – Ворами часто становятся те, кто любит высшее общество. – И он принялся украшать лиловую колонну оранжевыми звездами, в полном соответствии с общеизвестным стилем той эпохи.
Глава II
Враг
Джон Брейнтри был длинный, худой, подвижный человек с мрачным лицом и темной бородкой. По-видимому, и хмурился он, и бороду носил из принципа, как ярко-красный галстук. Когда он улыбался (а он улыбнулся, увидев декорацию), вид у него был приятный. Знакомясь с дамой, он вежливо, сухо и неуклюже поклонился. Манеры, изобретенные некогда знатью, стали обычными среди образованных ремесленников, а Брейнтри начал свой путь инженером.
– Вы попросили, и я пришел, – сказал он Мартышке. – Но толку от этого не будет.
– Нравятся вам эти краски? – спросил Мэррел. – Многие хвалят.
– Не люблю, – отвечал Брейнтри, – когда суеверия и тиранию облачают в романтический пурпур. Но это не мое дело. Вот что, Дуглас, мы условились говорить прямо. Я не хотел бы обижать человека в его доме. Союз Углекопов объявил забастовку,[14] а я – секретарь Союза. Я приношу вред Сивуду, зачем же мне вредить ему еще, портить пьесу?
– Из-за чего вы бастуете? – спросил Арчер.
– Из-за денег, – сказал Брейнтри. – Когда за хлебец берут двойную цену, мы должны ее платить. Называется это «сложная экономическая система». Но еще важней для нас признание.
– Какое признание? – не понял Арчер.
– Видите ли, профсоюзы юридически не существуют, – отвечал синдикалист. – Они ужасны, они вот-вот погубят британскую промышленность, но их нет. Только в этом и убеждены их злейшие враги. Вот мы и бастуем, чтобы напомнить о своем существовании.
– А несчастный народ сидит без угля! – воскликнул Арчер. – Ну что ж, вы увидите, что с общественным мнением вам не сладить. Не будете работать, не подчинитесь власти – ничего, мы найдем людей! Я лично ручаюсь за добрую сотню человек из Оксфорда, Кембриджа и Сити. Они пойдут в шахты и сорвут ваш заговор.
– С таким же успехом, – презрительно сказал Брейнтри, – сто шахтеров закончат рисунок мисс Эшли. Шахтеру нужно уменье. Углекоп – не грузчик. Хороший грузчик из вас бы вышел…
– По-видимому, это оскорбление? – предположил Арчер.
– Ну что вы! – ответил Брейнтри. – Это комплимент.
Миролюбивый Мэррел вмешался в разговор:
– Очень хорошо! Сперва грузчик, потом трубочист, все чернее и чернее.
– Вы, кажется, синдикалист? – строго спросила Оливия, помолчала и прибавила: – А что это, собственно, такое?
– Попробую объяснить кратко, – серьезно отвечал Брейнтри. – Мы хотим, чтобы шахта принадлежала шахтерам.
– Как же вы с ними управитесь? – спросила Оливия.
– Смешно, не правда ли? – сказал синдикалист. – Не требуют же, чтобы краски принадлежали художнику!..
Оливия встала, подошла к открытому французскому окну и стала хмуро смотреть в сад. Хмурилась она отчасти из-за Брейнтри, отчасти из-за собственных мыслей. Помолчав минуту-другую, она вышла на посыпанную гравием дорожку и медленно удалилась. Тем самым она выразила неудовольствие; но синдикалист слишком распалился, чтобы это заметить.
– В общем, – сказал он, – мы оставляем за собой право бастовать.
– Не злитесь вы, – настаивал миротворец, просунув между противниками большую красную кисть. – Не буяньте, Джек, а то прорвете королевский занавес.
Арчер медленно вернулся на свое место, а противник его, поколебавшись, направился к французскому окну.
– Не беспокойтесь, – проворчал он, – я не прорву ваших холстов. Хватит с меня того, что я пробил брешь в вашей касте. Чего вы хотите от меня? Я верю, вы настоящий джентльмен, и люблю вас за это. Но что нам с того, кто настоящий джентльмен, кто поддельный? Вы знаете не хуже моего: когда таких, как я, зовут в такие дома, как этот, мы идем, чтобы замолвить слово за собратьев, и вы любезны с нами, и ваши дамы с нами любезны, и все прочие, но приходит время… Как вы назовете человека, который принес письмо от друга и не смеет его передать?
– Нет, посудите сами, – возразил Мэррел. – Брешь в обществе вы пробили, но зачем же бить меня? Мне решительно некого позвать. Спектакль примерно через месяц, но тогда здесь будет еще меньше народу, а сейчас надо репетировать. Почему бы вам не помочь нам? При чем тут ваши убеждения? У меня, например, нет убеждений, я износил их в детстве. Но я не люблю обижать женщин, а мужчин здесь нет.
Брейнтри пристально посмотрел на него.
– Здесь нет мужчин, – повторил он.
– Ну, конечно, есть старый Сивуд, – сказал Мэррел. – Он по-своему не так уж плох. Не ждите, что я буду судить его сурово, как вы. Но трубадуром я его не вижу. А других мужчин и правда нет.
Брейнтри все смотрел на него.
– Мужчина есть в соседней комнате, – сказал он, – и в коридоре, и в саду, и у подъезда, и в конюшне, и на кухне, и в погребе. Что за чертоги лжи вы построили, если вы видите этих людей каждый день и не знаете, что они – люди! Почему мы бастуем? Потому что пока мы работаем, вы забываете о нашем существовании. Велите вашим слугам служить вам, но при чем тут я?
Он вышел в сад и гневно зашагал по дорожке.
– Да, – сказал Арчер, – признаюсь, я не мог бы вынести вашего друга.
Мэррел отошел от декорации и, склонив голову набок, стал разглядывать ее взглядом знатока.
– Насчет слуг он хорошо придумал, – кротко сказал он. – Представьте Перкинса в виде трубадура. Ну, здешнего дворецкого. А лакеи сыграли бы лучше некуда.
– Не говорите ерунды, – сердито сказал Арчер. – Роль маленькая, но нужно делать массу всяких вещей. Он целует принцессе руку!
– Дворецкий сделал бы это как зефир, – ответил Мэррел. – Что ж опустимся ниже. Не подойдет он, пригласим лакея, потом – грума, потом – конюха, потом – чистильщика ножей. Если же не выйдет ни с кем, я спущусь на самое дно и попрошу библиотекаря. А что? Это мысль. Библиотекаря!
С внезапным нетерпением он швырнул тяжелую кисть в другой конец залы и выбежал в сад, а за ним поспешил удивленный Арчер.
Было совсем рано, участники спектакля встали задолго до завтрака, чтобы подучить роли и порисовать, а Брейнтри всегда рано вставал, чтобы написать и отослать свирепую, если не бешеную, статью в вечернюю рабочую газету. Утренний свет еще не утратил в углах и закоулках того бледно-розового оттенка, который побудил поэта наделить зарю перстами. Дом стоял на горе, вокруг которой извивался Северн.[15] Сад спускался уступами, но деревья в белом цвету и большие клумбы, строгие и яркие, как гербы, не скрывали могучих склонов. На горизонте клубами пушечного дыма поднимались облака, словно солнце беззвучно обстреливало возвышенности земли. Ветер и свет накладывали глянец на склоненную траву, и казалось, что Мэррел и Арчер стоят на сверкающем плече мира. Почти у вершины, как бы случайно, серели камни прежнего аббатства, а за ним виднелось крыло старого дома, куда и держал путь Мэррел. Театральная красота и театральная нарядность Арчера выигрывали на фоне прекрасной, как декорация, природы, и эффект достиг апогея, когда в саду появилась еще одна участница спектакля – девушка в короне, чьи рыжие волосы казались царственными и сами по себе, ибо она держала голову и гордо, и просто, не могла стоять при звуке трубы, как боевой конь в Писании,[16] и радостно несла пышные одежды, развеваемые ветром. Джулиан Арчер в обтянутом трехцветном костюме был очень живописен, и рядом с ним по-современному тусклый Мэррел выглядел не лучше, чем конюхи, с которыми он так часто общался.
Розамунда Северн, единственная дочь лорда Сивуда, была из тех, кто с громким всплеском кидается в любое дело. И красота ее, и доброта, и веселость били через край. Ей очень нравилось быть средневековой принцессой, хотя бы в пьесе; но она не мечтала о старине, как ее подруга и гостья. Напротив, она была весьма современна и практична. Если бы не консерватизм ее отца, она бы стала врачом, а так – стала очень энергичной благотворительницей. Когда-то она увлекалась и политикой, но друзья ее не могли припомнить, отстаивала она или отрицала права женщин.
Увидев издали Арчера, она окликнула его звонким повелительным голосом:
– Я вас ищу. Как вы думаете, не повторить нам нашу сцену?
– А я ищу вас, – перебил ее Мэррел. – Драма в мире драмы. Вы часом не знаете нашего библиотекаря?
– При чем тут библиотекарь? – рассудительно спросила Розамунда. – Конечно, я его знаю. Не думаю, чтобы кто-нибудь знал его хорошо.
– Наверное, книжный червь, – заметил Арчер.
– Все мы черви, – весело сказал Мэррел. – У книжного червя просто вкус потоньше. Но я бы хотел поймать его, как птичка. Розамунда, будьте птичкой, поймайте его. Нет, я серьезно. Ты знаешь край… то есть знаете ли вы библиотеку, и можете ли вы изловить живого библиотекаря?
– Я думаю, сейчас он там, – немного удивленно сказала Розамунда. – Пойдите сами, поговорите с ним. Никак не пойму, на что он вам нужен.
– Вы всегда приступаете прямо к делу, – сказал Мэррел. – Какая же вы после этого птичка?
– Райская птица, – вставил любезный Арчер.
– А вы пересмешник, – засмеялась Розамунда.
– Я и червяк, и пересмешник, и мартышка, – согласился Мэррел. – Что поделаешь, эволюция… Но прежде чем превратиться еще в кого-нибудь, я вам объясню. Гордый Арчер не хочет, чтобы чистильщик играл трубадура, и я унижусь до библиотекаря. Не знаю, как его зовут, но нужен нам кто-нибудь!
– Его фамилия Херн, – не совсем уверенно промолвила дама. – Вы к нему не ходите… То есть, я хочу сказать, он человек приличный и, кажется, очень ученый.
Но Мэррел, со свойственной ему стремительностью, уже завернул за угол, туда, где сверкала стеклянная дверь в библиотеку. Там он остановился, глядя вдаль. На фоне утреннего неба темнели два силуэта – именно те, которые он и представить себе не мог вместе. Один был Джоном Брейнтри, другой – Оливией. Правда, когда он на них смотрел, Оливия отвернулась то ли в гневе, то ли в смущении. Но Мэррела удивило, что они вообще встретились. Его печальное лицо стало на минуту озадаченным; потом он встряхнулся и легко вошел в библиотеку.
Глава III
Библиотечная лестница
Сивудский библиотекарь однажды попал в газеты, но, вероятно, о том не узнал. Было это в 1906 году, во времена великого верблюжьего спора, когда профессор Отто Эльк, неумолимый гебраист, смело и рыцарственно бился с Книгой Второзакония и сослался по ходу дела на близкое знакомство безвестного библиотекаря с древними хеттами. Пусть просвещенный читатель не думает, что это – простые хетты; нет, это более древний народ, называвшийся тем же именем. Библиотекарь действительно знал о них очень много, но только (как он добросовестно разъяснял) за период от объединения царства при Пан-Эль-Заге, ошибочно называемом Пан-Уль-Загом, до бедственной битвы при Уль-Замуле, после которой, естественно, нечего и говорить о древнехеттской культуре. В данном случае мы вправе сказать, что никто не знал, что́ он знает. Он ничего не писал о своих хеттах, а если бы написал, вышла бы целая библиотека. Но никто не смог бы в ней разобраться, кроме него.
В публичном споре он появился внезапно и точно так же из него исчез. По-видимому, у его хеттов существовала какая-то система совершенно особенных иероглифов, которые на взгляд жестокого мира были трещинами и царапинами полуразрушенного камня. Где-то в Писании говорится, что кто-то у кого-то угнал сорок семь верблюдов; но профессор Эльк возвестил человечеству, что в хеттском рассказе о том же событии, согласно изысканиям ученого Херна, упомянуто лишь сорок. Открытие это подрывало основы христианской космологии, а по мнению многих, – самым страшным и многообещающим образом меняло взгляды на брак. Имя библиотекаря замелькало в статьях, и в перечне претерпевших гонения и небрежение произошла приятная перемена: Галилей, Бруно и Дарвин[17] обратились в Галилея, Бруно и Херна. Что-что, а небрежение здесь было, ибо сивудский библиотекарь продолжал трудиться в одиночку над своими иероглифами и разобрал к этому времени слова «и семь». Но не будут же просвещенные люди обращать внимание на такую мелочь.
Библиотекарь боялся дневного света, и ему вполне подобало стать тенью среди библиотечных теней. Высокий, худой, он к тому же держал одно плечо выше другого. Волосы у него были пыльно-белокурые, лицо длинное, нос прямой, бледно-голубые глаза расставлены очень широко, так что казалось, будто у него, собственно, один глаз, а другой неведомо где. В известном смысле так оно и было – другим его глазом смотрел человек, живший десять тысяч лет назад.
В Майкле Херне было то, что кроется в любом ученом под напластованиями учености и помогает вынести ее груз. Когда это выбивается наверх, оно зовется поэзией. Ведомый чутьем, Херн созерцал то, что изучал. Даже пытливые люди, возлюбившие уголки истории, увидели бы в нем лишь пыльного любителя древности, корпящего над горшками, мисками и пресловутым каменным топором, который так хочется закопать обратно. Это было бы несправедливо. Бесформенные предметы были для него не идолами, но орудиями. Глядя на хеттский топорик, он видел, как кто-то убивает им добычу, которую сварит в хеттском горшке; глядя на горшок, он видел, как кипит в нем вода, в которой варится то, что убил топорик. Конечно, он сказал бы точно, что именно там варилось; он мог бы составить хеттское меню. Из скудных обломков он создал древний город, затмивший Ассирию неуклюжим величием. Душа его блуждала под странным золотисто-синим небом, среди людей в головных уборах, высоких, как гробницы, гробниц, высоких, как крепости, и бород, узорных, как рисунок обоев. Когда он смотрел из открытого окна на садовника, подметавшего дорожки, он видел чудищ, как бы вырубленных из скалы, и созерцал их властные лица, огромные, словно город. Наверное, хетты немного сместили его разум. Когда один неосторожный ученый повторил при нем досужую сплетню о царевне Паль-Уль-Газили, библиотекарь кинулся на него с метелкой для обметания книг и загнал на вершину библиотечной лестницы. Одни считали, что эта история основана на фактах, другие – что ее выдумал Дуглас Мэррел.