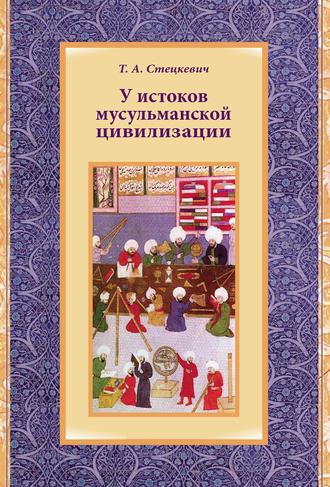
Полная версия
У истоков мусульманской цивилизации

Татьяна Александровна Стецкевич
У истоков мусульманской цивилизации
© Стецкевич Т. А., 2016
От автора
Дорогие читатели! Это издание не является научным исследованием. Все, что вы прочтете в этой книге, можно найти во многих трудах ученых-востоковедов, но для этого придется просмотреть сотни монографий и статей. Интерес к истории ислама и арабо-мусульманской цивилизации возник у меня давно, во время учебы на Восточном факультете ЛГУ (СПбГУ). В 50–60 годах XX в. проводилась активная борьба с религиозным мировоззрением и изучение любой религии, в том числе и ислама, в рамках университетского образования было невозможно. Тем, кто хотел стать религиоведом, нужно было прежде всего ликвидировать этот пробел. Небольшой факультатив по истории ислама почти нелегально, включив его в лекции по истории Ирана, прочел профессор И. П. Петрушевский. На этом и закончилось мое религиоведческое образование, но не исчез интерес к исламу. Некоторое время после окончания Университета мне пришлось преподавать историю в средней школе, и тогда выяснилось, как мало написано в учебнике про ислам и великую державу, которая положила начало мусульманской цивилизации. Мне захотелось дать ученикам дополнительные знания. Но, увы, не обнаружила ни одной популярной книги. Тогда я решила написать нечто вроде пособия для учащихся и преподавателей на основе своих университетских знаний. Ленинградское отделение издательства «Просвещение» приняло и опубликовало в 1962 г. под фамилией Т. А. Чистякова мой далеко не совершенный опус «Арабский халифат». Через несколько лет, окончив аспирантуру Музея истории религии по специальности «Ислам», я защитила кандидатскую диссертацию по проблемам историографии ислама и более 40 лет отдала музейной работе. В марте 2008 г. в новом здании Музея истории религии, расположенном на Почтамтской улице, открылась большая постоянная экспозиция, посвященная исламу. В ее создании есть и доля моего труда. Тем, кто интересуется историей ислама, рекомендую познакомиться с материалами, представленными в этой экспозиции: религиозными лубками (шамаилами) с формулами символа веры, прославлениями Аллаха, пророка Мухаммада и других пророков. Являясь произведениями религиозного искусства и, в частности, искусства каллиграфии, лубки предназначены для созерцания, приобщения мусульманина к божественному Слову. В экспозиции можно увидеть уникальную факсимильную копию одной из ранних рукописей Корана, известную как «Коран Османа», предметы, связанные с религиозным культом – молитвенный коврик, сосуды для ритуального омовения, четки. На плазменной панели демонстрируется документальный фильм о паломничестве (хаджж) в Мекку. Второй зал отдела посвящен многообразию ислама – направлениям и течениям в этой религии, а также культуре и быту мусульманских народов.
Интерес к исламу велик. Общая численность мусульман в мире составляет около двух миллиардов человек. Ислам не утратил способности к развитию и вовлечению в свою орбиту новых приверженцев, возрастает его влияние на формы государственного устройства, экономические, политические и иные сферы жизни современного мирового сообщества. С исламом связывают многие негативные явления современности – террористические акты, разрушение культурных ценностей. Название первого мусульманского государства радикально-экстремистские силы используют для борьбы за создание «всемирного халифата». История средневекового арабо-мусульманского государства, достигшего расцвета к IX–X вв., и распавшегося в течение короткого времени на множество самостоятельных государственных образований, показывает утопичность идеи халифата в современном мире. Мусульманская цивилизация, особенно в ранний период ее становления, оказала громадное влияние на ход мировой истории. Народы, населявшие Арабский халифат, внесли неоценимый вклад в развитие науки, литературы и искусства.
Санкт-Петербург, июнь 2016 г.
Глава I
Возникновение ислама
Природа и население Аравии в VI–VII вв
В VII в. в западной части Аравийского полуострова, вдали от мира, где вершились судьбы человечества, произошло событие чрезвычайной исторической значимости – в племенном обществе аравитян образовалась качественно иная структура объединения людей – община верующих в Единого Бога (Аллаха). Свою религию они назвали ислам (арабск. «поклонение Единому Богу»), а государство, возникшее в результате деятельности общины (уммы), ее основателя и пророка новой веры Мухаммада – халифат. За короткий исторический срок в составе халифата кроме Аравии оказались Сирия, Палестина, Египет, Северная Африка, Иран, Армения, часть Грузии; арабы вторглись в Испанию и дошли до границ Южной Франции. Покоренные народы вместе с завоевателями создали высокоразвитую культуру, впитавшую традиции пестрой в этническом отношении среды, втянутой в орбиту ислама. Арабы внесли большой вклад в науку, искусство, образование, им многим обязана культура европейских народов. В истории мировой цивилизации халифату принадлежит важное место. Его идеология – ислам – определила пути развития многих народов.
Долгое время знания европейцев об Аравии ограничивались свидетельствами средневековых географов и историков. Только в середине XVIII в. отважные путешественники предоставили науке ценнейшие сведения о природных условиях, истории, религии, нравах и быте арабского мира.
«Джазират ал-араб» («Остров арабов») – так называют Аравийский полуостров его коренные обитатели. И вправду, полуостров больше похож на гигантский остров. С трех сторон он окружен водой: на западе его берега омываются Красным морем, на юге – Аравийским, на востоке – Персидским и Оманским заливами. Северная граница Аравии проходит вдоль крупнейшей реки Ближнего Востока – Евфрата.
Площадь Аравии около 3 млн. кв. км, что равняется четверти европейского материка. На географических картах Аравия выглядит как большое желтое пятно с небольшими зелеными и коричневыми вкраплениями. Можно подумать, что весь полуостров, кроме прибрежных полос, занят пустыней, безжизненной и грозной. На самом деле природные условия Аравии совсем не так однообразны. Горы и плоскогорья, низменные местности с жарким и влажным климатом, песчаные холмы и дюны пустынь – все это Аравия – таинственная и пугающая.
По словам одного из первых открывателей Аравии немецкого путешественника Карстена Нибура «пересеченная песчаными пустынями и широкими цепями гор Аравия, с одной стороны, являет собой картину полного запустения в его наиболее страшном виде; в то же время, с другой стороны, она разукрашена всеми красотами наиболее плодородных стран».
Большую часть полуострова составляет плоскогорье Неджд, спускающееся террасами к морю. Южнее и севернее Неджда простираются сухие и бесплодные пустыни, занимающие треть полуострова. В жаркое время года ровные песчаные степи лишены растительности. Изредка в этом песчаном океане попадаются зеленые оазисы, где близ бьющих из земли источников растут пальмы и плодовые деревья.
Особенно жаркий и сухой климат в пустыне Руб ал-хали («Пустая четверть мира») в южной части полуострова. Дожди здесь чрезвычайно редки, иногда проходит три-четыре года, прежде чем на бесплодную землю упадет живительная влага. Безотрадная, однообразная пустыня внушает путнику страх. Арабы называют ее «дыханием смерти». Особенно грозной становится она при урагане – самуме. Обычно самум дует два-три часа. В это время пустыня превращается в море движущихся песков, температура воздуха повышается до +50, а относительная влажность приближается к нулю. У людей выступает обильный пот, начинается головная боль, рвота, человеку угрожает смерть от теплового удара.
Застигнутые самумом в пустыне караваны подвергаются смертельной опасности. Услышав гул приближающегося урагана, путники ложатся на песок и закрывают голову одеждой, а верблюды прячут головы в песок.
В пустыне постоянно могут произрастать только засухоустойчивые травы и кустарники, но во время дождя некоторые ее районы превращаются в степи, куда устремляются арабы-кочевники со своими стадами. Даже в самых бесплодных местах встречаются дикие животные – волки, лисицы, шакалы, песчаные крысы.
В Аравии нет ни одной постоянной реки, ни одного озера. Это одна из самых безводных стран мира. Иногда ливни заполняют многочисленные сухие долины, пересекающие полуостров в разных направлениях. В далеком прошлом вади – так арабы называют эти долины – были руслами многоводных рек и ручьев.
Во время дождей вади снова становятся мощными потоками, но скоро эти реки высыхают и теряются в песках. Некоторые вади, где подпочвенные воды близко подходят к поверхности земли, и влага сохраняется дольше, служили дорогами для караванов, на склонах других выращивали злаки, финики, бананы и другие культуры.

Аравия. Рис. Дж. Прюнье. Франция. ХХ в.
Население Аравийского полуострова занималось двумя основными видами деятельности: земледелием и скотоводством. Земледельцы составляли меньшую часть населения, ведь большая часть земель Аравийского полуострова пригодна только для пастбищ. Крупные массивы плодородных земель расположены на крайнем юге и севере полуострова, но и здесь земледелие возможно лишь при искусственном орошении.
Во многих странах Ближнего и Среднего Востока скотоводство в силу природных условий слабо связано с земледелием и носит по преимуществу кочевой характер. Громадное большинство населения внутренних районов Аравии составляли арабы-кочевники – «бедуины». Слово «бедуин» происходит от арабского названия степных пространств Аравии – «бадия»; арабов-кочевников называли «бадави» (множ. число – «бадауин») – «жители пустынь».
Бедуины занимались разведением верблюдов и в меньшей степени коз, овец и коней (эти животные в отличие от верблюдов не могут долго обходиться без воды).
В период весенних дождей степи и даже некоторые районы пустынь покрываются зеленью, кочевники пасут здесь свои стада. Верблюды в это время получают достаточно влаги из сочной зелени. Когда зной высушивает почву и губит растительность, бедуины перегоняют стада поближе к источникам воды – колодцам и водоемам. Жизнь араба-кочевника неотделима от его кормильца – верблюда. Верблюжье мясо и молоко идут в пищу, из шерсти выделывается грубая одежда и войлок для шатров, из кожи изготавливают ведра, мешки, сандалии. Верблюд легко преодолевает большие пространства. Одногорбые аравийские верблюды – дромадеры – даже в жару могут обходиться без воды до 5 суток и при этом нести более 250 килограммов груза, а верблюды беговой породы пробегают за сутки до 130 километров. Недаром верблюдов называют «кораблями пустыни», а в арабском языке слова «верблюд» и «красота» имеют один корень. В VII в. арабы-бедуины жили племенами. Основой родовой организации был шатер – жилище одной семьи. Группа шатров составляла клан (каум), несколько кланов объединялись в племя (кабила). Во главе племен и кланов стояли предводители – сейиды или шейхи (старейшины). Они определяли места становищ, ведали перекочевками, разбирали споры между соплеменниками и вели переговоры с другими племенами и кланами, во время войны или набегов командовали вооруженными отрядами.
Принадлежность к племени гарантировала человеку безопасности и неприкосновенность собственности, но горе тому, кто был изгнан за какое-либо преступление из своего рода – его могли совершенно безнаказанно убить или ограбить, и некому было за него заступиться. Араб, попавший в такое положение, искал защиты у другого племени, становясь «ищущим покровительства» (дахил) или клиентом (маула) шейха или другого, пользующегося уважением и влиянием, члена племени.
Жизнь племени определялась обычаями и правилами, установленными в незапамятные времена и передававшимися из поколения в поколение. Обычай кровной мести, когда за изувеченного или убитого члена рода были обязаны мстить все его соплеменники, причем не только обидчику, но и остальным членам рода, был широко распространен и приводил к десятилетиям противостояния с новыми человеческими жертвами и материальными потерями. К началу VII в. все чаще стали прибегать к выкупу крови. Жизнь одного араба оценивалась примерно в 100 верблюдов.
Пастбища делились между племенами. Право собственности на землю покоилось только на военной мощи. Часто между племенами вспыхивали войны из-за пастбищ, ожесточенная борьба длилась иногда долгие годы. Первоначально пастбища находились в собственности всего рода, но к VII в. стали выделяться богатые семьи, присваивавшие себе исключительные права на земли, владевшие большим поголовьем скота. Продажа верблюдов и лошадей на рынках Аравии и соседних стран приносила немалые доходы. Из богатых семей избирались предводители племен и родов.
Земледельцы, жившие в Южной Аравии (Йемен, Хадрамаут, Махра), на севере и в оазисах центральной части полуострова, зачастую также имели скот и пасли его в степях. На плодородных землях сеяли пшеницу, ячмень, сахарный тростник, выращивали виноград, плодовые деревья. Возделывались и широко известные за пределами Аравийского полуострова культуры: алоэ, пряности, растения и деревья, из которых добывались ароматические смолы.
Большое место в жизни араба занимала финиковая пальма. Свежие и сушеные финики шли в пищу. Молотые косточки добавляли в корм скоту, из финикового сока вываривали сахар. Основным строительным материалом служили пальмовые стволы и листья.
Наиболее развитой земледельческой областью Аравии был Йемен, где значительная часть населения жила в городах Мара, Сана, Наджран. Здесь процветали торговля и ремесла. Особенно высокого развития в VI–VII вв. достигли кожевенное, кузнечное и гончарное производства, изготовление оружия. Город Наджран славился тканями.
Из византийских и сирийских источников известно, что большинство пашен, садов и виноградников принадлежало городской знати. Полевые и ирригационные работы выполнялись домашними рабами-слугами. Наряду с рабами трудились и свободные земледельцы, объединявшиеся в общины и сообща владевшие оросительными сооружениями.
Еще один вид деятельности городского населения – торговля, главным образом, транзитная. Торговые пути проходили через Южную и Западную Аравию. Главное место в транзитной торговле принадлежало одному из наиболее развитых районов Западной Аравии – Хиджазу – гористой стране между Недждом и побережьем Красного моря, где между двумя параллельными горными цепями лежит небольшое плоскогорье – удобный путь для караванов, шедших из Йемена в Египет, Сирию и Палестину.
Основным перевалочным пунктом на этом пути был город Мекка – родина будущей мировой религии – ислама.
Достоверными сведениями, по которым можно было бы судить о возрасте Мекки, наука не располагает. Возможно, археологи, если бы им было позволено произвести раскопки, нашли следы ее ранней истории, но в Мекку путь открыт только мусульманам, желающим поклониться святыням ислама. Ученым остается предполагать, что, упоминаемая Геродотом и широко известная в эпоху Птолемеев Maкораба, была предшественницей Мекки.
Основателем города мусульманские предания называют предводителя племени Курайш Кусаййю ибн Килаба, вытеснившего в середине V в. с этой земли племя хуза’а.
Мекка расположена в неглубокой знойной котловине, окруженной голыми холмами, бесплодными и пустынными, покрытыми чахлой зеленью и кустарниками. Жители Мекки страдали от жары и недостатка воды. Только после дождей хорошая питьевая вода поступала по водоводу из окрестностей города.
Единственным постоянным источником воды служили колодцы, где в летнее время солоноватая влага сохранялась лишь на дне. Иногда на долину обрушивались ливни, мутные потоки смывали все на своем пути, врывались на улицы и несколько раз даже подмывали фундамент и стены Каабы – одного из самых известных языческих святилищ Северной Аравии.
Кусаййа и члены его семьи стали главными попечителями святилища, хранителями ключей и распорядителями церемоний паломничества, им же принадлежало почетное право поить и кормить паломников, председательствовать в Дар ан-надва (Совете курайшитов) и нести знамя.
Удобное положение Мекки на торговых путях и статус неприкосновенности ее территории, обеспечивавший безопасность паломничества и торговли, способствовали процветанию города. Его престиж еще более возрос после того как примерно около 570 г. закончилась неудачей попытка одного из эфиопских правителей Йемена захватить торговые пути в Западной Аравии и покорить Мекку.
По крайней мере два раза в год мекканцы снаряжали большие караваны, шедшие на север в Палестину, Сирию и Египет и на юг – в Йемен. Средневековый арабский историк ат-Табари приводит сведения об одном из караванов, составленном из 2500 верблюдов и называет грузы, которые он вез: кожи, серебро в слитках, изюм, финики и многое другое.
В Мекке и в урочище Указ, примерно в 100 км восточнее Мекки, во время паломничества устраивались ярмарки, куда съезжались люди из отдаленных местностей. Бедуины охотно обменивали продукты животноводства на разнообразные товары. На ярмарках можно было приобрести византийские и сирийские шелковые ткани, сукна, стеклянную посуду, металлические изделия и оружие, зерно и растительное масло. Во время празднеств и ярмарок в Мекке и ее окрестностях провозглашался мир, запрещались ссоры и вооруженные столкновения. Порядок поддерживали бедуины из племен, не поклонявшихся богам Мекки и не обязанных входить в город без оружия.
К началу VII в. жители Мекки – курайшиты – представляли собой племенное сообщество, состоявшее из родов, занимавшихся торговлей и ростовщичеством, имевших рабов, которые были заняты в домашнем хозяйстве и обрабатывали поля и сады богачей в близлежащих оазисах. Одним из самых богатых был род Омейя, с господством которого связан почти столетний период истории Арабского халифата (661–750).
Более бедные роды, такие как род Хашим, занимались мелкой торговлей, ремеслами, имели небольшие стада, пасшиеся в окрестностях Мекки. Бедное население города зависело от знати, племенной верхушки, пользовавшейся преобладающим влиянием и реальной властью среди соплеменников и кочевых и оседлых племен, экономически зависевших от Мекки.
Усиление имущественного расслоения внутри арабских племен и родов свидетельствовало о надвигающихся переменах в экономической и социальной жизни аравийского общества. Общинный строй вступал в период кризиса.
Новые имущественные отношения требовали сильной центральной власти, общественные противоречия более не могли регулироваться традиционным родоплеменным механизмом социального контроля. Первые попытки создания в Аравии государственных образований относится к V–VI вв., когда образуются полукочевые княжества Киндитов, Лахмидов, Гассанидов. Каждое княжество стремилось к укреплению собственных позиций по отношению к другим племенам и к стабилизации внутренних процессов, вызванных конфликтами между разными слоями уже далекого от равенства общества. Однако ни одно из них не смогло существовать самостоятельно и занять господствующее место, поскольку они были постоянно вовлечены в соперничество Византии и Ирана и междоусобные конфликты.
Религиозная жизнь в Аравии до ислама
Вера в сверхъестественные силы, от которых зависит все происходящее в природе и в судьбе человека, была единственной формой идеологии в раннесредневековом аравийском обществе. Только она имела значение при определении правильности или ложности поступков, мыслей, обычаев и законов. Не удивительно, что во главе политических движений становились люди, обосновывавшие свои действия божественным вдохновением.
К началу VII в. на Аравийском полуострове не было одной безраздельно господствовавшей религии. Самыми распространенными были языческие верования. Воображение арабов населяло природу невидимыми духами, добрыми и злыми, божествами – покровителями и дающими дождь (Йагус), охраняющими заблудившиеся стада (Сува’), определяющими судьбу (Манат) и др. Некоторые божества почитались на отдельных территориях, а богини ал-Лат, Манат и ал-Узза – по всей Аравии. Наиболее достоверные сведения о божествах доисламской Аравии приводятся в «Книге об идолах» Хишама ибн ал-Калби – знатока истории и преданий арабских племен, жившего в IX в.: «У курайшитов идолы стояли внутри Каабы и вокруг нее. Величайшим из них считался Хубал. Он находился внутри Каабы.
Перед ним (лежало) семь стрел. На одной было написано «чистокровный», на другой – «чужой». Когда сомневались относительно (отца) ребенка, приносили Хубалу жертву, а затем бросали стрелы. Если выпадало «чистокровный», ребенка, принимали, а если выходило «чужой», от него отказывались. Была стрела для покойника, для заключения брака и три (стрелы), назначения которых мне не объяснили. Когда спорили по какому-нибудь делу или имели в виду путешествие или какую-нибудь работу, приходили к нему и бросали стрелы возле него. И как выпадало, делали согласно этому и полагались на это».
Хубал – изваяние из красного сердолика в виде человека, правая рука у него была отломана, и курайшиты сделали ему новую руку из золота. Около статуй Исафа и Наилы, стоявших около Каабы, приносили в жертву верблюдов и овец.
По преданию, в мекканской Каабе (самом крупном языческом святилище Северной Аравии) ко времени возникновения ислама находилось 360 идолов племенных богов и изображение Девы Марии с младенцем Иисусом, вероятно, оставленное византийским мастером, участвовавшим в ремонте святилища.
В священную территорию Мекки входили также городские холмы Сафа и Марва, а за пределами города – долина Мина и горы Муздалифа и Арафат. Два раза в год в Мекку прибывали паломники для поклонения Каабе. С трепетом прикасались они к своим идолам, пили воду из колодца Замзам, семь раз пробегали между Сафой и Марвой, приносили в жертву животное. Эти обряды назывались «малым паломничеством» (умра). «Большое паломничество» (хаджж) было приурочено к месяцу зу-л-хиджжа и состояло из всех обрядов умры с последующим посещением долины Мина, горы Арафат и долины Муздалифа, где почитали бога громовержца и повелителя дождя.
Одним из высших божеств аравийского пантеона еще до ислама стал Аллах (ал-илах «божество»), постепенно приобретавший черты Единого Бога. Формированию представлений о единстве и единственности Бога (монотеизма) в некоторой степени способствовали иудаизм и христианство, пришедшие в Аравию из сопредельных стран.
Первой иноземной монотеистической религией, утвердившейся на арабской почве, стал иудаизм. Его принесли евреи – переселенцы из Римской империи, обосновавшиеся в городах Йемена, оазисах северного Хиджаза и в непосредственной близости от Мекки в Таифе.
Вслед за иудаизмом, в Аравию проникло христианство в форме монофизитства, несторианства, православия (халкедонитства). Самым крупным поселением христиан был город Наджран в северном Йемене с населением свыше 20 тыс. человек. Христианами становились даже кочевники (племена таглиб, намир, бакр).
Хорошо организованных общин у христиан было не так уж много, но в самых пустынных местах, в горных пещерах одиноко и группами жили христианские аскеты и монахи. К ним тянулись люди, желавшие послушать библейские сказания и споры между сторонниками разных течений.
Мысль о том, что нужно поклоняться одному Богу, а не множеству идолов, постепенно проникала в сознание людей и уже не казалась кощунственной, когда ее стали высказывать не пришлые иудеи и христиане, а соплеменники, называвшие себя ханифами. Об учении ханифов известно лишь то, что они проповедовали веру в одного Бога, отвергали поклонение идолам, вели аскетический образ жизни.
Картина религиозной жизни Аравии будет не полной, если не сказать о кахинах и пророках, проповедовавших до Мухаммада и одновременно с ним.
Кахины (прорицатели) в доисламской Аравии считались высшими авторитетами при принятии важных для рода или племени решений. Сайиды и шейхи обращались к ним за советом, полагая, что они могут общаться с потусторонними силами и передавать их волю людям. Приведя себя в состояние транса, кахины бормотали что-то невнятное, принимаемое окружающими за божественные послания. Придя в себя, кахины растолковывали смысл ниспосланий, переданных через их уста. Типологически кахины древней Аравии сходны с шаманами и ранними пророками Ханаана, Моава и Мари – государственных образований Древнего Востока.
В конце VI – начале VII вв. кризисные явления проникли в экономику, политическое устройство, социальные отношения аравийского общества, что не могло не отразиться на религиозной жизни. В разных районах Аравии (Йемаме, Йемене, Неджде) появились люди, называвшие себя пророками (наби): Мусайлима, Тулайха, ал-Асвад, Ибн Саййад, пророчица Саджах. Коран называет их «лжепророками». Их пророчества по форме были похожи на традиционные «речения» кахинов, но содержание было иным.

