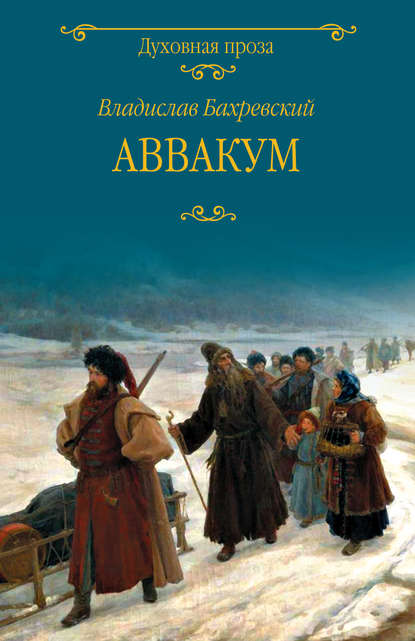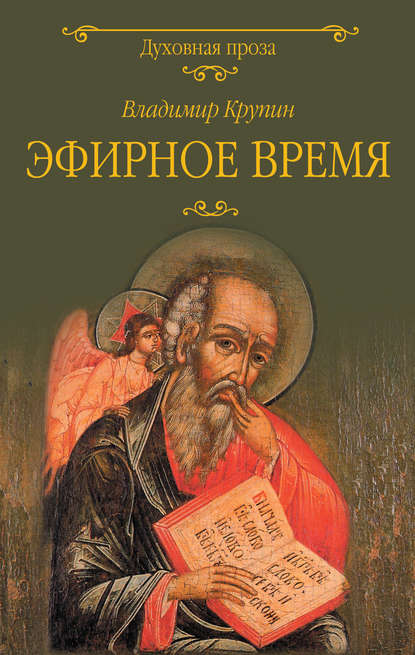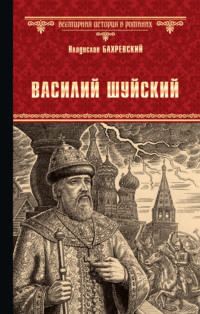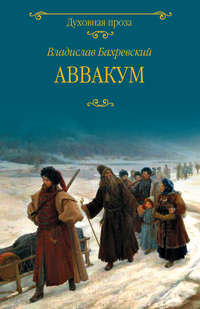Полная версия
Патриарх Тихон. Пастырь

Владислав Бахревский
Патриарх Тихон. Пастырь
© Бахревский В.А., 2018
© ООО «Издательство «Вече», 2018
© ООО «Издательство «Лепта Книга», иллюстрации, 2018
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019
Сайт издательства www.veche.ru
Детство патриарха
По малину
Младенчество – дивное продолжение вечности. Жизнь для младенца – Вселенная материнского тепла, а все земные неудобства, все горести – мокрые пеленки да газы, тревожащие животик.
Вечность не спешит расстаться со своими птенцами. Уже и ножки бегают, и речь разумна, но сладкий сон полубытия все длится, длится… Чудо пробуждения нежданно.
И вот стоял он на изумрудной земле. За лугом темные ели, как церкви, а иные похожи на древний отцовский молитвенник: ветви расходятся от ствола строчками тяжелых славянских букв.
Должно быть, это и есть книга – для зверей, для птиц. Тень от ельника густая, под нижними лапами сидят сумерки, ждут своего часа.
Перевел глаза на луг, на пригорок, и уж так сладко вздохнулось: свет! От земли до небес, а небесам конца и краю нет. На пригорке по зеленой траве золотые гвоздики. Лютики. Каждый цветок до краев полон сиянием. От подошвы пригорка до вершины – камни. Горяче-розовые, длинные, как рыбы. Они словно плывут, стремясь в небо.
Ели – тайна, камни – тайна. Цветы – тоже тайна. И свет. Сердце стучало, под горло подкатил комочек. Пришлось нахмуриться, чтоб одолеть неведомые слезы.
На первую свою вершину, на бугорок среди луга, он взошел сосредоточенный, серьезный. Медленно поворачиваясь, оглядел мир, сотворенный для него Всевышним. Положил руки на грудь, запрокинул голову, сказал небу:
– Я – Василий.
Голова закружилась. Он лег, раскинул руки. И одна рука нашла камень, а другая – нежную чашечку цветка.
Было слышно, как муравей идет, раздвигая травинки: из бездны света смотрел Всевышний.
– Господи! – позвал Вася тихохонько, не ожидая, что Бог явится ему. – Гос-по-ди!
Сладко говорить со Всевышним сердцем, сладко слышать само слово «Господи». Маменька Анна Гавриловна говорит: «Боженьку надо любить».
Васе хочется растопырить свое сердечко, обнимая землю, небо, батюшку, матушку, братцев, няню Пелагею, весь погост Клин, где они живут, – избы, церковь, людей.
– Господи, я люблю Тебя!
Слова сказаны, но ведь надо что-то сделать, а что? Душа волнуется, сердце беспомощно сжимается…
– Вася!
Маменька кличет. Вскочил, замахал руками.
– Мы за ягодами, ты пойдешь с нами?
– Иду!
Стремглав побежал с пригорка, но на лугу остановился, оглянулся на розовые камни. Эти камни положил здесь Бог, но зачем? Почему – розовые? На лугу камни окатные белые, а здесь – розовые, длинные, как рыбы.
Из дому вышла няня Пелагея с корзиной для себя и с берестяным лукошком для любимца Васи. Пелагея – батюшкина родственница. Нянчила и Павла, и Ваню, и Васю. Теперь она ходит за скотиной, а за Васей только приглядывает. Подрос. Четыре года стукнуло.
За няней вслед, как на пожар, скатился со ступенек крыльца Ваня. Ему девять. Осенью поедет в Торопец, в духовное училище. У Вани лукошко из лыка, за плечами – лук, на боку – колчан из старой рукавицы. В колчане стрелы – ивовые прутики, но одна настоящая. С хвостом из гусиного пера, с железным наконечником. Стрелу Павел привез.
Появляется, наконец, и сам Павел. В соломенной шляпе, в высоких холодных сапогах. Маменьку перерос. Ему двенадцать лет. В последний класс духовного училища пойдет. У Павла в руках сачок и папка для гербария. У него в лесу научные цели.
Васе всего четыре года, но он тоже ученик. Батюшка показал ему буквы, русские и славянские. Маменька научила двенадцати молитвам. Учиться у батюшки все дети любят: не бьет, даже не кричит. Лаской обучает: читать, писать, знать все моря, все страны, всех князей, всех царей.
Павел в духовном училище отличник, и Ваня будет отличником. Вася уверен, что он тоже от братьев не отстанет, батюшкиной домашней науки не посрамит.
– Ну, лесовики, ничего не забыли? – спросила Пелагея.
Постояли, прикинули, не надо ли чего с собой взять.
Лето в самой поре: малина поспела, жарко.
– Напьемся из родников, – сказала Пелагея.
– Тогда идемте в Ложок, – предлагает маменька. – Там и ключи, и малина крупная.
– А крапива? – испугался Ваня.
Ваня, Вася и Пелагея босы, а крапива в Ложку стеной стоит, стережет красну ягодку.
– Мы сверху пойдем, – пообещала маменька. – Крапива хоть и кусается, да на пользу.
– В Ложку-то колосовиков наберем, – обрадовалась Пелагея. – После вчерашнего дождя да по такому теплу непременно высыпят. Я корову выгоняла в стадо – туман стоял теплый, как молочко парное.
Шли по сплошной кашке, пахло медом, пчелы после дождей работали усердно. Воздух дрожал от бесчисленных крылышек. Верещали ласточки. Трава становилась выше, выше. Гуськом вломились в чащобу кубышек. Под ногами зачавкала теплая вода. Маменька разулась, а у Павла сапоги непромокаемые, взял Васю на плечи. Высоко, а до пышных зонтиков кубышек едва-едва рукой дотянешься. Травяной лес кончился возле озерка.
– Коровье Копыто, – сказала Пелагея.
– Сколько лилий! Боже ты мой! Как стая лебединая! – ахнула маменька.
– Лягушка! – прошептал Ваня.
– Тут их целая колония. – Павел повел рукой по контурам озерка.
Вася увидел: лягушки сидели одна к одной вдоль всего берега.
– Не вспугнуть бы! – сказала маменька.
– Да отчего же не вспугнуть? – возразил Павел и шагнул к воде.
Шлеп-шлеп-шлеп – лягушки кидались в воду, вода в озере раскачалась, лилии словно ожили, задвигались, сладко пахнуло настоянным на солнце торфом.
– Я в детстве боялась лягушачьей икры, – сказала Анна Гавриловна.
– Маменька! Да отчего же? Что может быть безобиднее?
– Еще лед не весь растает, вдруг этот студень. Скользкий, холодный! Бр-р-р!
– А папенька меня на пруд водил удивляться зримому чуду. Из черных точек – головастики с хвостами, из головастиков – зеленые бесхвостые лягушки.
– Для батюшки Иоанна всякая букашка – умиление и радость, – сказала Пелагея и, повернувшись лицом к низкорослому кустарнику с островком березок, поклонилась. – Заждалась нас царевна-роща! Истомилась, ожидаючи, сладка ягода малинушка.
Ложок был узким оврагом. Он шел через всю рощу в луга. Весной вода скатывалась быстро, промоина на дне оврага была гладкая, круглая, как труба. Малина росла над трубою по обоим берегам, да так густо, что на нее можно было лечь: не уронит.
Теперь по руслу Ложка не вода – ягоды. Река сладка, а поди сунься. Уж такая крапива вымахала – не то что продираться сквозь нее – смотреть страшно.
– Выше конопли! – ужаснулась Пелагея. – Тут без шубы да без лаптей не проторкнуться.
– А это мы поглядим! – Павел поднял сучок и рубанул по крапиве.
Ваня бросил лук, выломал палку и ввязался в сражение. Вася крапиву жалел, в стороне стоял.
Проход братья проломили широкий, но Васю в малинник не взяли.
– Мы с тобой грибы поищем, – предложил Павел.
Пошли по березняку. Павел углядел впереди моховую поляну.
– Я туда, а ты в папоротниках посмотри.
Во мху прятались подосиновики.
– Вася! Тут гусар на гусаре. Такие все ровнехонькие. Иди ко мне!
– Си-час! – откликнулся Вася. Как же бросить папоротники, если сказано – посмотри.
Папоротники росли широко и были похожи на индюков с распущенными хвостами.
– Ау-у! – кликнула из Ложка маменька.
– Ау-у! – радостно отозвался Вася.
– Ау-у-у! – подхватил Ваня. – Ау-у-у-у!
Звонкий голос, как луч, пролетел насквозь березовую рощу и позвал из лугов:
– Ау-у-у-у!
И через долгий промежуток из неведомого далека:
– Ау-у-у-у!
Вася затаил дыхание, ожидая, где еще откликнется эхо, и у самых ног увидел большой, с темной шапкой, на толстенной ножке царь-гриб. Белый.
– Паша! – шепотом закричал Вася. – Нашел!
Павел не откликнулся, он резал подосиновики.
Вася осмотрелся. Еще гриб. Гладкий, как камень-окатыш.
– Паша! – снова крикнул Вася.
– Ну, что там у тебя?
– Грибы… Ой! Еще! И еще!
Павел пришел, удивился:
– Белые! Вася, ты посмотри. Они же по кругу растут.
Нарезали белых.
– Ау-у! – тихонечко позвала детей маменька.
– Здесь мы! Здесь! Ау! – отозвался Павел.
– Ау-у!.. – закричал было Вася, но Павел закрыл ему рот ладонью. По дальнему краю поляны шел большой, заросший щетиной вепрь. За ним – такая же тучная косматая самка, а за самкою цепочкой – поросятки.
Стояли молча. Когда семейство скрылось наконец, Павел отер ладонью пот со лба:
– Пронесло! – И взявши за руку Васю, побежал к Ложку. – Маменька! Поднимайтесь! Тут кабаны.
Женщины быстрехонько выскочили из малинника, за ними Ваня.
– Пойдемте отсюда! – попросил Павел.
– Да ведь прошли кабаны-то! Доверху бы корзины добрать! – пожалела Пелагея.
– Идемте! Идемте! – рассердился Павел. – Кабаны с потомством. Тут шутки плохи.
Быстро пошли к Коровьему Копыту.
– Лук! – вспомнил Ваня. – Я лук оставил.
– Я тебе другой сделаю, – пообещал Павел.
– Ты их видел, кабанов? – спросил Ваня младшего братца.
– Видел.
– Страшные?
Вася подумал, покачал головой.
– И ты их не испугался?
– Нет, – сказал Вася. – Они хорошие.
– Хорошие! – Павел снова отер пот со лба.
– Белые-то какие! Да все чистенькие! – удивилась Пелагея.
– Вася нашел. По кругу росли, будто кто нарочно посадил.
У озерка отдышались.
Павел вспомнил о папке для гербария, о сачке.
– Вы ступайте, а я лечебные травы поищу. За стрекозами побегаю. Ишь какие зеленые! Может, бабочка редкая попадется.
– Ты бабочек не лови! – попросил Вася.
– Я – для коллекции. Коллекция – это надолго, а бабочки – придет осень – от холода пропадут.
– Нет, ты их не лови! – снова попросил Вася. – Они ведь живые.
Отец Иоанн
Солнце провалилось в землю, когда воротился из Торопца батюшка Иоанн Тимофеевич.
Прибыл тишайше. Пара лошадок подвезла тарантас к самым воротам и стала. Долгое ли было стояние, неведомо. Пелагея вышла поглядеть, не гонят ли стадо, и – назад домой:
– Матушка! Прибыли. Стоят спят. И Харитон, дурья башка, и батюшка благочинный.
Ворота отворили, лошади, не ожидая понукания, тронули. Ездоки пробудились.
– Конфеточек вам привез! – улыбнулся Иоанн Тимофеевич, доставая из торбы сразу две горсти.
– С благополучным пришествицем, отче! – повернулся к седоку красноносый Харитон.
– Слава Богу! Слава Богу! Не расшиб, не опрокинул… – Иоанн Тимофеевич, все еще сидя в тарантасе, широко улыбнулся вышедшей из дому Анне Гавриловне: – Матушка! Блаженнейшая! Ты уж нас с Харитоном не ругай! По поводу угостились. Уж по такому поводу, что ты бы и сама нам поднесла по стопочке.
Иоанн Тимофеевич качнулся, отлепляясь от горячего кожаного сиденья, ступил на подножку тарантаса, но опереться руки заняты – потянулся к Васе, к Ване:
– Вот вам, ребятушки!
Ладошки у чад маленькие, конфеты посыпались мимо. Анна Гавриловна отвернулась.
– Си-час! Си-час! – встрепенулся Иоанн Тимофеевич. Ухватил торбу и проворно ступил на твердь.
Поднес по аккуратной горсточке Анне Гавриловне, Пелагее, Павлу. Троекратно расцеловался со взрослыми, благословил малых чад.
– Ну, детушки, матушки! Совершилось. Прощай, Клин, благословенная обитель наша! Всё, Анна Гавриловна, всё! Переведенция состоялась. Ты зришь настоятеля Спасо-Преображенского торопецкого храма. Господь преображался и нас ныне преобразил неизреченною Своею милостью.
Дети смотрели на маменьку. Маменька перекрестилась, за нею все домочадцы.
В горнице Иоанн Тимофеевич сел возле окошка, под образа, на патриаршее место, и загрустил. Семейство, ожидая подробного рассказа, помалкивало.
– Так-то вот! – Лицо батюшки сморщилось, стало маленькое, синие глаза заморгали, из-под век посыпался бисер слезинок. – Горожане вы теперь. Все, слава Богу, жданно и желанно, а сниматься с гнездовья – как в прорубь ухнуть.
– Батюшка, да что уж ты этак! – удивилась Анна Гавриловна.
– Двадцать лет, матушка! Двадцать лет лучшей нашей поры в Клину. До серебра в бороде дожил. Благочинием почтен. Страшно, матушка, верный очаг покидать. И согревал, и радовал.
– Очаг-то к нам добр, но куковать бы нам, батюшка, возле него в одиночестве. В этом году Ване уезжать, а там и Васе…
– Права ты, матушка, права! Но разве не заслужил наш Клин, чтоб о нем погоревать?
– Заслужил, батюшка! Заслужил. С шестнадцати лет я здешнему краю радуюсь. Всех детей моих родина.
– А про меня и говорить нечего. Хоть в ином месте рукоположен во иерея, но пастырем здесь стал, в милом сердцу Клину.
– Батюшка, а в Харитонове ты сколько служил? – спросил Павел.
– Меньше года. Я после семинарии остался без места. Жил в Сопках, у старшего брата, у Григория Тимофеевича. Одно лето миновало, другое. Нахлебничать, хоть и у родных, не лучшая доля.
– Отчего в город не ехал? В городе работы много.
– Голубчик! Паша! О чем ты говоришь? Это нынче послал нам Бог Александра Николаевича. Освободителя! – Иван Тимофеевич указал перстом в потолок. – А тогда ведь царствовал Николай Павлович. Вот кто был истинный природный самодержец. Строгостей было – Господи! В город, говоришь! Да меня там как праздношатающегося поповича в солдаты бы забрили без рассуждения. А попробовал бы рассуждать – о-о-о! За умничанье сквозь строй прогоняли. Чихнул невпопад – палок! Духовенство секли почем зря. – Иоанн Тимофеевич поежился, поглядел смущенно на Анну Гавриловну: – Поднеси, матушка, настоечки. Хоть с полштофа. Ознобило!
Матушка не перечила. Пошла приготовить закуски. Иоанн Тимофеевич повеселел:
– Видишь ли, Паша!.. Это ведь теперешняя молодежь городом бредит… А для нас Бог пребывал на родной земле, Беллавины потому и Беллавины, что из века в век Иисусу Христу служат. Сказано: «Весь бо есть бел Господь наш». Его истинным светом род Беллавиных бел.
– А нас вроде бы и Дьяконовыми кличут? – вспомнил Павел.
– По пращурам. До батюшки моего, Тимофея Терентьевича, все ведь дьячками были. Терентий Осипович, Осип Петрович, Петр Кириллович. Кирилл-то вроде священником был. Впрочем, духовенство – сословие крепостнее крепостного. В древние времена попасть в духовные можно было, а выйти – нет. Ваш дедушка первый в роду удостоился иерейского сана, а в диаконах служил с десяти лет.
– Как так – с десяти?! – изумился Павел.
– А что ты удивляешься? Терентий Осипович, твой прадед, оставил шестерых домочадцев женского пола, вот на его место и поставили сына-отрока, чтоб семья с голоду не перемерла. Ни семинарии, ни даже духовного училища отец Терентий не проходил. Читать и петь по книжкам учился. От батюшек набирался и ума, и знания… Уважаемый был иерей. Консистория его награждала и «за добродушие и усердие», и «за трезвую жизнь», и даже «за скромный характер».
– За скромный характер и ты награды достоин, – сказала Анна Гавриловна, ставя перед супругом графин с водкой, соленые рыжики, жаренную в сметане рыбу, молодой лук, малину в чашках.
– Что поделаешь, матушка, – развел руками Иоанн Тимофеевич, – трезвенностью Всевышний не наградил.
Анна Гавриловна вздохнула, быстро ушла за ситцевую занавеску, на кухоньку. Батюшка огорченно поглядел на чад:
– Беда, ребята!.. Ваш папенька подобен Ною, от которого детям его – искушение. Не берите с меня этого примера. Не огорчайте своих матушек.
Но Анна Гавриловна явилась от печи, светясь радостью, с огромным, позлащенным жаром пирогом.
– С грибами, чую! – воскликнул Иоанн Тимофеевич, вконец смущенный за свое питие, за огорчения, приносимые драгоценной матушке, смущенный даже счастливым видом ее.
– Грибы нынешние. Павел с Васенькой набрали.
Анна Гавриловна водрузила свое творение на стол и загляделась на семейство.
– Ты что? Матушка? – встревожился Иоанн Тимофеевич.
– Хорошие вы у меня. Золото с серебром, серебро с золотом. Вот уж воистину Беллавины.
Вася сидел, затаясь сердцем: ему было легко, как одуванчику. Помолился про себя: «Господи Иисусе Христе! Пречистая Богородица!» А о чем помолился, чего попросил – не ведал.
Батюшка прочитал молитву, выпил, отведал пирога.
– Блаженство, матушка, блаженство! – И поглядел на старшего сына: – Вот ты, Паша, в город за счастьем меня послал бы. Что тебе сказать? Терпеливее мы были. Куда как терпеливее нынешнего молодого поколения. Господь за терпение жаловал нас, грешных… Меня и в Сопках-то чуть было в рекруты не забрили. Спасибо, невеста сыскалась. Батюшка Анны Гавриловны помре, а сыновей у него не было. Чтобы место за семьей сохранить, стали искать жениха для матушки вашей.
– Еще ведь и ждать пришлось со свадьбой, – улыбнулась Анна Гавриловна. – Мне пятнадцати лет не было, а как исполнилось – сыграли свадьбу.
– Я уже диаконом был. Венчались в сентябре, а девятнадцатого октября памятного 1847 года высокопреосвященный Нафанаил, архиепископ Псковский и Лифляндский, рукоположил меня во священника. Вся наша жизнь, чадушки, – промысел Божий. Уж в таких я неудачниках ходил, что сам себе казался пустоцветом, человеком ничтожнейшим. Мне ведь двадцать пять лет было. Умные люди на мне крест ставили, а Господь по-своему судил. Священство даровал, ласковую супругу, пригожих детей. Судьбой, голубчики мои, наградил. Судьбой. Мой завет вы знаете: никогда не отступайтесь от Бога. Бог оставит вас, а вы не теряйте ни веры, ни надежды. И будет вам в сто крат всего, как Иову из страны Уц.
Вася смотрел на отца, притулившись к няне, волосы – как овсяная солома. Батюшка потянулся через стол, погладил Васю по голове, потом и Ваню, а Павлу руку на плечо положил: опора.
– Ах, чадушки! Много молились ваши деды, да жизнь без греха не бывает. Молитесь о них. Невелик труд помянуть человека, а для отошедших ко Господу молитвы наши – духовный нектар.
– Я дедушку Тимофея Терентьевича всегда поминаю, – сказал Павел, – и бабушку Екатерину Антоновну, прадедушку Терентия Осиповича и Осипа тоже, а как звали прабабушку?
– Авдотья Петровна. У Осипа Петровича супруга Прасковья Алексеевна. Осип Петрович сто лет прожил. Женился под пятьдесят. Прасковья Алексеевна была моложе его на двадцать девять годков. Последнюю дочь Осип Петрович родил, когда за шесть десятков перевалило! Могучий был человек. Уж так возглашал «многая лета» – свечи гасли. Вот и наказываю вам, не забывайте пращуров… Будьте к ним милосердны. Они-то о нас денно и нощно молятся. Помните заповедь Екклесиаста: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его».
Торопец
Нарядил Господь Бог город Торопец красотою неувядающей. Обаял хрустальными озерами, сокрыл лесными дебрями со множеством свирепых зверей. Дал на пропитание не землю, убогую хлебом, но воду, богатую рыбой. Исторгнул из озер глубокие реки, руби корабль и плыви, пока не достигнешь тридевятого царства.
Какая земля – такие люди. Именит Торопец торговым сословием. А где купец, там и грех. Купеческое покаяние рукотворно. Поставить Божий храм – душу побелить. Впрочем, всякий новый храм хоть чем-то, да виднее прежних. Сладко угодить Богу, но еще слаще затмить чужую казну сиянием своей сокровищницы.
Жителей в Торопце тысяч семь, с младенцами, церквей – двадцать девять. И ни одной древней развалины. А древностью даже Москва перед Торопцом не кичится. Отсчет своего бытия торопчане ведут по первому письменному упоминанию в лето 6582-е от Сотворения мира: назван в летописях среди русских исконных тридцати городов.
В Клинском погосте семейство Беллавиных имело две десятины земли, много скота и уютный домик, прозванный «поповкой». Новый дом смотрел на улицу пятью окнами. Хоромы. Улица широкая, мощенная деревянными торцами, но почему-то именуется переулком. По церкви – Спасским.
За домом, опускаясь в низинку, большой сад, огород, скотный двор, сарай для сена.
Храм Спаса Преображения на другой стороне улицы. Бесстолп-ный, с двумя рядами окон. Расширения ради пристроено место для алтаря и придел для крестильни.
Храм величавый, куб с кокошниками под высокой квадратной крышей. На угловых кокошниках изразцы. На изразцах темно-зеленые орлы о двух головах. Царские. Купол над храмом невелик, далеко не глядит, а колокольня как сторожевая башня. Восьмигранная, массивная. Церковь при царе Федоре Алексеевиче строилась, а колокольня – петровское ухищрение. Куполок как перст.
Все в доме радовались красоте, вместительности храма, солидности прихода. Не ахти как многолюдно, зато дешевых свеч угодникам не ставят.
– А главная моя радость, матушка, – говорил в счастливую минуту отец Иоанн, – никто теперь не посмеет сказать о наших детях – деревенщина! Торопец невелик, но в анналах истории стоит крепко. Здесь куда ни ступни – древность, а древность дороже золота. Я теперь иду-иду, да ногою-то и потрогаю землю: по векам ходим, матушка.
Отцовские слова как семена в Васиной душе.
Отпущенный из дому погулять, он бродил вокруг церкви, глядя под ноги. Нашел изумрудный с позолотою осколок изразца, верхнюю часть орлиной головы с короной.
– Золото, что ли, нашел? – спросил церковный сторож Мокей младшего поповича.
– Древность. – Вася показал находку.
– Торопец древностью не скуден. Мы ведь постарше Москвы на семьдесят три года. Стольный град во внуки нам годится. – Борода у Мокея была рыжая с сединой, висела на груди как плохо надутый бычий пузырь. – Я вот тебе что покажу… Погоди-ка, погоди-ка!
Мокей принялся шарить по карманам и наконец извлек крошечную кособокую денежку. Поднес к глазам поповича:
– Зришь?
– Зрю, – сказал Вася.
– Зришь, да не ведаешь. Знаешь, что за денежка?
– Нет, – виновато сказал Вася.
– Этими денежками святого князя Александра Невского с его княгиней посыпали, когда они из нашей церкви выходили после венчания. Слыхал о князе?
– Слыхал.
– Батюшка, что ли, сказывал?
– Павел.
– А чем знаменит святой князь, знаешь?
– На Чудском озере немецких рыцарей во льдах потопил.
– Знатно! Держи денежку. На долгую тебе память от Мокея.
Взял Васю за руку, вложил в ладошку монету.
– Спасибо, – сказал мальчик и, вздохнув, протянул сторожу кусочек изразца.
– Благодарю! – Мокей вдруг прослезился. – Себе оставь, твое счастье. Братцам покажешь… А вот скажи, батюшка-то Иоанн зело строгий?
Вася покачал головой.
– А матушка?
– Маменька ко всем добрая.
– Ну и слава Богу! По тебе видно, сколь просты душою Иоанн с Анною. Хорошо живется деткам в семье у батюшки, значит, и приход будет как семья. Я многих батюшек на своем веку перевидал. Каковы детки – таковы и батька с маткой.
Вася побежал домой показать обретенные древности.
Кусочек изразца больше всего понравился Ване. Павел обрадовался монетке:
– Действительно, древняя! Конечно, не времен Батыя и Александра Ярославича… Царя Алексея. Между прочим, я узнал, что на Светлицком озере стоял город варягов. Варяги, Вася, это суровые бесстрашные воины из северных полночных стран. У них были огромные мечи.
– Вот в какое дивное место батюшка нас привез, – сказала Анна Гавриловна, разглядывая то монетку, то осколок изразца. – Неужто чудотворец и заступник Александр Невский в нашей церкви венчался?
– Вздор, маменька! Это чистой воды вздор! – замахал руками Павел. – Батюшкин храм – сооружение конца семнадцатого – начала восемнадцатого века, а князь Александр Ярославич венчался в Торопце в тринадцатом столетии.
– Паша, но люди-то говорят.
– Маменька, так ведь смотря кто говорит. Излишняя доверчивость сродни невежеству. Разве уместно слушать всякого, кто верит нелепицам и нелепицы плодит.
– Так-то оно так. А все-таки…
Быстро вошел в комнаты батюшка:
– Исторические споры? Собирайтесь, снаряжайтесь! Отец диакон зовет нас покататься на своей лодке.
– Да уж вечер скоро! – возразила Анна Гавриловна.
– То-то и оно! Отец диакон луну обещал. Так что без света не останемся, а вот одевайтесь поплотнее, на воде свежо.
Диакон Спасо-Преображенского храма отец Алексей после окончания Псковской семинарии служил первый год, но весь род его был искони торопецким.
Оба молодца, Алексей и Павел, сели на весла. Матушка с батюшкой ушли на корму, а Ваня с Васей пристроились на носу – вперед смотреть.
Сначала прошли мимо острова с храмом Богоявления.
– В нашем краю кривичи жили, – сказал отец Алексей. – Вон видите холмики? Здесь стоял град Кривечь. Родной батюшка нашему Торопцу… Древнее новгородское владение. При святом князе Владимире Кривечь попал под власть Киева, а противниками киевской власти были полоцкие князья. Они отвоевали у Киева волоки по Днепру, по Ловати. Вот тогда и взошла звезда Торопца. Киевские купцы освоили торговый путь через Залесскую землю в Новгород и в иные дальние страны. Волок от реки Желны в нашу Сережу – тридцать верст, но пристани Торопца стали желанными.