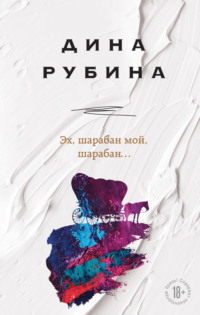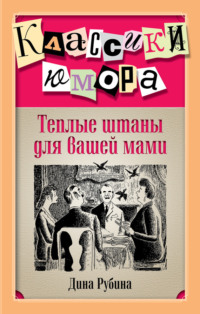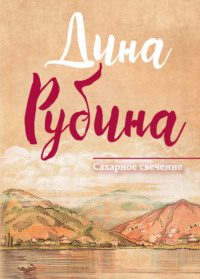Полная версия
Сквозь сеточку шляпы (сборник)
К чему я все это? – чтоб ты поняла, что должна еще приехать! Да что мы с тобой, в самом деле, хуже англосаксов? Или струи у нас слабее?!
(Из письма автора Марине Москвиной)
* * *Мы устроили у нас дома «отвальную» по поводу отъезда на два года в Москву.
Губерман, узнав, что я собираюсь угощать гостей пловом, сказал:
– Только не плачь над ним, а то пересолишь.
Довольно весело, легко прошел этот вечер. Все, конечно, изгалялись на тему моего высокого назначения. Игорь обращался ко мне не иначе как «Дина Сохнутовна».
Сашка Окунь вспомнил, как его приятель, работая в московском «Сохнуте» в начале девяностых, нанял себе в телохранители полк казаков, которые повсюду с пиками наперевес и с шашками на боку выступали впереди него.
– Я вообще давно считаю, что надо учредить иорданское казачество. Если есть донское и кубанское… чем хуже легендарный Иордан? А ты, – сказал он мне, – вообще должна вести себя заносчиво, сплевывать на ходу, ходить повсюду завернутая в израильский флаг, требовать, чтобы тебе отдавали честь при встрече и носить на боку шпагу.
Игорь, весь вечер наблюдая за моими нервными вскакиваниями (на другой день мы уезжали), проникновенно сказал:
– Ну что ты так трепетна, как гимназистка, продавшаяся в портовый бордель? Не волнуйся, начнешь работать и увидишь, что ничего страшного нет, что среди клиентов даже и симпатичные попадаются.
Кое-кто из гостей советовал тщательнее проверять у клиентов документы – черт-те кого, мол, привозят в страну…
* * *Бершадские, например, привезли в Израиль старую няню, тихую русскую женщину. Привезли на свой страх и риск по купленным еврейским документам, ибо без Нюши никто бы и с места не тронулся.
Годах в тридцатых Нюшу прихватил с собой из Суздаля старый Бершадский. Ездил он по стране от «Заготзерна», увидел в какой-то конторе тощую девочку, таскающую тяжеленные ведра, по въедливости своей расспросил и вызнал все – что сирота, живет у соседей из милости, подрабатывает уборщицей. Был старый Бершадский человеком резких, мгновенных решений.
Так Нюша оказалась в семье. И прожила с Бершадскими всю свою жизнь. Вынянчила дочь Киру, потом ее сына Борю, потом народились от Бори Мишка и Ленка, подросли, пошли в школу…
Тут все они и переехали в Иерусалим.
Поначалу Нюша тосковала: все вокруг было непонятным, люди слишком крикливыми, свет слишком ярким, испепеляющим. С утра на окнах надо было опускать пластмассовые – гармошкой – жалюзи.
Но постепенно она освоилась, все ж таки Ерусалим, Земля Святая, по ней Своими ноженьками Сам Иисус ходил!
Она отыскала дорогу в церковь Марии Магдалины и буквально за несколько месяцев стала в христианской общине для всех родной и необходимой. И монахини, и послушницы, и паломники – все Анну Васильевну любили и почитали. Замечательно, кстати, готовила она еврейские национальные блюда, которым в свое время обучила ее жена старого Бершадского, великая кулинарка Фира. Монахиням очень нравились манделех и фаршированная рыба.
Потом Нюша заболела, тяжело, окончательно… Христианская община всполошилась, поместили ее во французский госпиталь «Нотр-Дам», ухаживали, навещали, поддерживали безутешную семью…
Под конец Нюша горевала, что Бог за грехи не пустит ее в рай.
– Да за какие такие грехи, ты ж святая! – восклицала пожилая Кира.
– Нет, – бормотала она, – за ненавиство проклятое.
– Да за какое такое ненавиство?!
– А вот, Полину не любила…
Полина была соседкой по коммунальной квартире в Трубниковском переулке – скандальная вздорная баба, терроризирующая все проживающие там семьи.
– Полину тебе не засчитают, – обещал Мишка, солдат десантных частей Армии обороны Израиля, безбожный представитель третьего выращенного ею поколения семьи Бершадских.
…Отпевали ее в церкви Нотр-Дам священник с хором мальчиков, пришло много народу с цветами, нарядный черный гроб, украшенный серебряными вензелями и кистями, торжественно сопровождал на кладбище кортеж из семи черных «Мерседесов», – все расходы по скорбному ритуалу взяла на себя христианская община.
Разве могла когда-нибудь Нюша помыслить, что лежать она будет на самой горе Сион, с вершины которой ее кроткой душе откроется во всем своем белокаменном великолепии святой Ерусалим!
Видно, прав был Мишка, безбожный представитель третьего выращенного ею поколения семьи Бершадских: Полину не засчитали.
* * *Впрочем, не нам судить – что, и как, и кому засчитывают там, в небесной канцелярии…
Вот пожилой немец Готлиб фон Мюнц… Его мать, баронесса, после прихода Гитлера к власти в знак протеста приняла иудаизм, затем своим порядком попала в концлагерь и погибла. Мальчик успел спастись, его где-то спрятали родственники. Переживший смерть матери, потрясенный ее судьбой, он уехал в Израиль и всю жизнь прожил здесь, подрабатывая рисунками в газетах, какими-то карикатурами.
С расцветом эпохи компьютеров он, немолодой уже человек, осилил все премудрости компьютерной графики и подвизается на книгоиздательской ниве. Когда очередной работодатель разоряется, его нанимает следующий авантюрный еврей – продавец воздуха (поскольку многие из них – русские евреи, он выучил русский язык), и вновь он сидит и верстает страницы русских газетенок в программе «Кварк» или еще какой-то там программе – пожилой немец, барон фон Мюнц, гражданин государства Израиль, старожил Иерусалима, сдержанный негромкий человек.
И другая судьба: девушка, француженка, родилась в истово католической семье, воспитывалась в бенедиктинском монастыре, затем окончила школу медсестер и уехала в Африку с миссионерскими целями. Быт там своеобразный, особой библиотеки взять было неоткуда, по ночам донимали москиты… Она пристрастилась читать Библию. И в процессе этих ежедневных, вернее, еженощных чтений открыла для себя экзальтированная девица, что еврейская религия – основа основ, самая естественная, самая доподлинная вера и есть.
Она приехала в Иерусалим, вышла замуж за польского еврея и прожила здесь буквально всю жизнь: дала себе обет, что никогда – никогда! – не покинет Иерусалима.
Она ни разу из него и не уезжала… Муж, известный в Польше архитектор, спроектировал и построил в Старом городе причудливую трехэтажную квартиру с огромной террасой, обращенной к Западной стене.
Потом он умер, а женщина эта так и живет – удивительная пленница своей истовой веры, старая иерусалимка. Время от времени она является в Министерство абсорбции, берет адрес или телефон какой-нибудь совсем новой семьи репатриантов и некоторое время опекает этих обезумевших от собственного шага в пропасть людей: возит их повсюду, объясняет все, рассказывает – приручает к Иерусалиму, царственному дервишу, припыленному королю городов, мифу сокровенному. А к нему ведь необходимо припасть, не глядя на мусорный бак у соседнего дома… И вот она, приемная дочь Иерусалима, понимает это как никто другой и поит, поит из собственных ладоней драгоценной любовью к этому городу, который пребудет вечно, даже если распахать его плугом – как это уже бывало, – вечно пребудет, ибо поставлен – на скале.
* * *Довольно часто я размышляю о возникновении феномена мифа в сознании, в чувствовании человечества. Я не имею в виду культурологический смысл этого понятия. Скорее, мистический. Знаменитые сюжеты, отдельные исторические личности, произведения искусства, города – вне зависимости от степени известности – могут вознестись до сакральных высот мифа или остаться в ряду накопленных человечеством земных сокровищ.
Вот Лондон – огромный, имперской славы город. Париж – чарующий, волшебный город! Нью-Йорк – гудящий Вавилон, законодатель мод…
Иерусалим – миф.
Миф сокровенный…
2004Я и ты под персиковыми облаками
Это история одной любви, бесконечной любви, не требующей доказательств. И главное – любви неослабной, не тяготящейся однообразием дней, наоборот, стремящейся к тому, чтобы однообразие это длилось вечно.
Он – прототип одного из героев моего романа.
Собственно, он и есть герой моего романа, пожалуй, единственный, кому незачем было менять имя, характер и общественный статус, которого я перенесла из жизни целиком на страницы, не смущаясь и не извиняясь за свою авторскую бесцеремонность. В этом нет ни капли пренебрежения, я вообще очень серьезно к нему отношусь. Более серьезно, чем ко многим людям. Потому что он – личность, как принято говорить в таких случаях.
Да, он – собака. Небольшой мохнатый песик породы тибетский терьер, как уверяет наш ветеринар Эдик.
Почему-то я всегда с гордостью подчеркиваю его породу, о которой, в сущности, ничего не знаю, да и знать не желаю: наш семейный демократизм равно широко простирается по всем направлениям. На нацию нам плевать, были бы душевные качества подходящие.
Попал он к нам случайно, по недоразумению, как это всегда бывает в случаях особо судьбоносных.
В то время мы жили в небольшом поселении в окрестностях Иерусалима, в центре арабского города Рамалла, в асбестовом вагоне на сваях, посреди Самарии. Весна в том году после необычно снежной зимы никак не могла набрать силу, дули змеиные ветры, особенно ледяные над нашей голой горой.
Щенка притащила соседская девочка, привезла из Иерусалима за пазухой. В семье ее учительницы ощенилась сука, и моя шестилетняя дочь заочно, не спрашивая у взрослых разрешения, выклянчила «такусенького щеночка». В автобусе он скулил, дрожал от страха, не зная, что едет прямехонько в родную семью. Родная семья поначалу тоже не пришла в восторг от пополнения.
Мы втроем стояли у нашего вагончика, на жалящем ветру, дочь-самовольница скулила, и в тон ей из-за отворотов куртки соседской девочки поскуливало что-то копошащееся – непрошеный и ненужный подарок.
Я велела дочери проваливать вместе со своим незаконным приобретением и пристраивать его куда хочет и сможет.
Тогда соседка вытащила наконец этого типа из-за пазухи.
И я пропала.
Щенок смотрел на меня из-под черного лохматого уха бешеным глазом казачьего есаула. Я вдруг ощутила хрупкую, но отчаянную власть над собой этого дрожащего на ветру одинокого существа. Взяла его на ладонь, он куснул меня за палец, отстаивая независимость позиции, придержал ухваченное в зубах, как бы раздумывая – что делать с этим добром, к чему приспособить… и сразу же принялся деятельно зализывать: «Да, я строг, как видишь, но сердцем мягок…»
– Его назвали Конрад… – пояснила девочка.
– Ну, мы по-ихнему не приучены, – сказала я. – Мы по-простому: Кондрат. Кондрашка.
Недели через две, когда все мы уже успели вусмерть в него влюбиться, он тяжело заболел. Лежал, маленький и горячий, уронив голову на лапы, исхудал, совсем сошел на нет, остались только хвост и лохматая башка… Ева плакала… Да и мы – были минуты – совсем теряли надежду. Завернув в одеяло, мы возили его на автобусе в Иерусалим, к ветеринару. Тот ставил ему капельницу, и, покорно лежа на боку, щенок смотрел мимо меня сухим взглядом, каким смотрят вдаль в степи или в пустыне.
Но судьба есть судьба: он выздоровел. Принялся жрать все подряд с чудовищным аппетитом и месяца за два превратился в небольшую мохнатую свинью, дерущуюся со всеми домашними.
Стоял жаркий май, днем палило солнце, к вечеру трава вокруг закипала невидимой хоральной жизнью – что-то тренькало, звенело, шипело, жужжало, зудело, и все это страшно интриговало Кондрата.
Под сваями соседнего каравана жил какой-то полевой зверек невыясненного вида (у нас он назывался Суслик, и не исключено, что таковым и являлся). Это было хладнокровное и мудрое существо, которое каким-то образом сумело наладить со взбалмошным щенком приличные, хотя и не теплые отношения. Во всяком случае, Кондрат не стремился загрызть своего подсвайного соседа. Однако постоянно пытался «повысить профиль» и поднять свой статус. Для этой цели время от времени он притаскивал к норе пожилого и сдержанного Суслика что-нибудь из домашнего обихода: старую Димкину майку или мочалку, завалившуюся за шкафчик и добытую им с поистине человеческим тщанием, – выкладывал на землю и вызывающе лаял: «А ну, выдь, жидовская морда, глянь – ты эдакое видывал?!» Вообще, с детства обнаружил уникальную, поистине мушкетерскую хвастливость.
Когда, украдкой сцапав упавшую на пол тряпочку для мытья посуды, Кондрат мчался под сваи соседнего каравана, Димка говорил: «Опять хлестаться перед Сусликом пошел».
Целыми днями он гонял кругами вокруг нашего асбестового жилища, молниеносно бросаясь в траву, отскакивая, рыча от восторга, поминутно пропадая из поля зрения, и тогда над холмами Самарии неслись, пугая пастухов-арабов, наши призывные вопли…
Так что детство его прошло на воле, среди долин и холмов, а дымы бедуинских костров из собачьей души, как ни старайся, не выветришь.
* * *Но скоро мы променяли цыганскую жизнь в кибитке на мещанский удел: купили обычную квартиру в городке под Иерусалимом. Судьба вознесла нашего пса на немыслимую высоту – последний этаж, да и дом на самой вершине перевала. Войдя в пустую квартиру, первым делом мы поставили стул к огромному – во всю стену – венецианскому окну. Кондрат немедленно вскочил на него, встал на задние лапы, передними оперся о подоконник и залаял от ужаса: с такой точки обзора он землю еще не видел.
С тех пор прошло восемь лет. Стул этот и сейчас называется «капитанским мостиком», а сам Капитан Конрад проводит на нем изрядно свободного времени, бранясь на пробегающих по своим делам собак и сторожа приближение автобуса, в котором едет кто-то из домашних. Как матрос Колумбова корабля, он вглядывается в даль, на Масличную гору, поросшую старым Гефсиманским садом, а завидя кого-то из близких, принимается бешено молотить хвостом, как сигнальщик – флажками, словно открыл, наконец, открыл свою Америку!
* * *Наверное, мне надо его описать. Ничего особенного этот пес из себя не представляет. Такой себе шерстистый господинчик некрупной комплекции, скорее белый, с черными свисающими ушами, аккуратно разделенными белым пробором, что делает его похожим на степенного приказчика большого магазина дамского белья. На спине тоже есть несколько больших черных пятен, хвост белый, энергичный, ответственный за все движения души. Закинут на спину полукольцом и наготове для самых непредвиденных нужд, как солдатская скатка. Вот, собственно, и весь Кондрат. Не бог весть что, но длинная взъерошенная морда и черные глаза, саркастически глядящие сквозь лохмы казацкого чуба, изумительно человекоподобны.
* * *Зимами он лохмат и неприбран, как художник-абстракционист, поскольку не допускает всяких дамских глупостей вроде расчесывания шерсти. С наступлением жары – кардинально меняет облик. Я сама стригу его со страшным риском поссориться навек. Он огрызается, рвется убежать, вертится, пытаясь цапнуть меня за руку для острастки. Я с ножницами прыгаю вокруг него, как пикадор вокруг разъяренного быка, отхватывая то тут, то там спутанный клок. После окончания экзекуции он превращается в совсем уж несерьезную собачонку с лохматой головой и юрким нежно-шелковистым тельцем. Не жених, нет. Даже и описать невозможно – кто это такой. Однако опасность подцепить клеща резко снижается. Да и жара не так допекает. А красота – она ведь дело наживное…
Тем более что главное, оно известно, – красота души.
Восемь лет я наблюдаю эту независимую и склочную натуру и – не скрою – в иные моменты судьбы очень бы хотела позаимствовать кое-что из характера моего пса.
Во-первых, он неподкупен. Чужого ему не надо, а свое не отдаст никому.
Наш Кондрат вообще – мужичок имущественный. Любит, чтоб под его мохнатым боком «имелась вещь»: старый носок, ношеный Евин свитер, нуждающийся в стирке, или кухонный фартук, который я уже несколько месяцев считала запропастившимся, а он вон где – у Кондрата под брюхом. Сторож своему хозяйству он лютый. Не только забрать, а и мимо пройти не советую. Из самых глубин собачьего естества вы вдруг слышите тихий опасный рокот, похожий на слабое урчание грозы или хриплый гул далекой конницы.
Впрочем, полное отсутствие врагов, покусителей, да просто зрителей его расхолаживает. И если у него настроение сразиться с кем-нибудь и показать не важно кому кузькину мать, он прихватывает зубами что-то из своего хозяйства, заявляется с угрожающим видом туда, где вы сидите, ни о чем не подозревая и мирно попивая чай или что-там-еще (так, пружиня на носках сапожек и зыркая по сторонам, ковбой заходит в незнакомый паб), и выкладывает добычу прямо вам под ноги. Морда при этом уже разбойничья и провокационная: «А ну, давай, сунься!»
И правда, если вам придет в голову подразнить его, – например, сделать вид, что протягиваете руку за его кровным, трудом и потом нажитым имуществом, – ох какой шквал проклятий, угроз, бандитских наскоков… При этом хвост его молотит бешеную жигу, глаза горят, мохнатое мускулистое тельце извивается, грудью припадая к полу, пружинно вздымается зад. И так до изнеможения, до радостно оскаленной, рывками дышащей пасти, застывшего хохота на мохнатой физии… Он счастлив: боевой конь, тигр, бешеный арап, зверюга проклятая, – все это, как вы понимаете, доводят до его сведения потом, когда, распростершись мохнатым ковриком, он бессильно валяется под стулом. И это поистине блаженные минуты нашего семейного счастья…
* * *Однако нельзя сказать, что Кондрат счастлив в личной жизни. Как-то так получилось, что он холост. Мы поначалу истово искали ему возлюбленную, давали брачные объявления… все тщетно. Потом уж вроде подбирались какие-то партии, не скажу, что выгодные или достойные по положению в обществе, – так, мезальянс все-таки.
У него, впрочем, есть некий заменитель супружеских отношений. Я даже не знаю, как это поделикатней сказать: это два больших домашних тапочка, сделанных в виде плюшевых зайцев, с розовыми пошлыми мордами и белыми ушами.
Как праотец наш Авраам, Кондрат имеет двух жен… Интересно строятся эти отношения – как в гареме, у султана с наложницами: когда на него находит интимное настроение, весь пыл души и чресел он посвящает только одной из своих плюшевых гурий, не обращая внимания на происходящее вокруг. При этом – раскован, упоен, влюблен, бесстыден, как восточный сатрап…
Удовлетворив любовный жар, он разом из галантного поэта-воздыхателя превращается в полную противоположность: в этакого слободского хулигана, который, сильно выпив, возвращается домой из кабака. Что нужно такому мужику? Поучить жену, конечно. Крепко поучить ее, дуру. И вот Кондрат хватает одну из своих возлюбленных зубами за заячьи уши и начинает нещадно трепать, совсем уж впадая в пьяный раж, подвывая и ухая, так что от барышни лишь клочки летят по закоулочкам.
Мы пытаемся урезонить его разными осуждающими возгласами, вроде: «Сударь, вы почто дамочку обижаете?»
Иногда приходится даже отнимать у него несчастную, вот как соседи отбивают у слободского хулигана его воющую простоволосую бабу…
Но бывают и у него высокие минуты блаженного семейного покоя. И точно как султан в гареме возлежит на подушках, покуривая кальян и глядя на своих танцующих наложниц, – а вокруг возлежат жены, старшие, младшие и промежуточные… так же и Кондрат: подгребет к себе обеих, положит свою продувную морду между ними на какой-нибудь украденный им носок и тихо дремлет, бестия… Хотела бы я в эти минуты заглянуть в его мечты…
* * *Утро начинается с того, что, учуяв вялое пробуждение мизинца на вашей левой ноге, некто лохматый и нахрапистый вспрыгивает на постель и доброжелательно, но твердо утверждается передними лапами на вашей груди. Вы, конечно, вольны зажмурить глаза, не дышать, не двигаться – словом, прибегнуть ко всем этим дешевым трюкам – все напрасно: пробил час, а именно шесть склянок, когда спать дальше вам просто не позволят: будут лезть мокрым носом в ваше лицо, старательно его облизывая и норовя целовать – тьфу! – прямо в губы.
Можно еще потянуть время, умиротворяя этого типа почесыванием брюха, – он разваливается рядом, милостиво подставляя телеса для ласк, но как только ваша засыпающая рука вяло откинется, требовательной лапой он призовет вас к порядку. Так что дешевле уж не тянуть, а сразу выйти на прогулку.
И вы поднимаетесь и лезете в джинсы, путаясь в штанинах, с трудом разлепляя глаза и не попадая ногой в кроссовки, тем более что один кроссовок (одну кроссовку?) этот негодяй куда-то уволок и яростно треплет, рыча и скалясь в экстазе.
А на улице вообще-то дождь, туман, хмарь и морось. Ваш ржавый позвоночник отказывается держать спину, ноги деревянные, руки ватные, глаза не открываются. Вы и так старый больной человек, а эта собачья сволочь еще цинично насмехается, продлевая удовольствие ожидания прогулки. Скачет по комнатам с одной из двух своих меховых блядей в зубах и азартно ее мутузит. Уже стоя перед дверью в куртке, вы призывно позвякиваете ошейником и поводком.
– Так ты не идешь гулять, сволочь собачья, паскудник, проходимец, холера лохматая?! Вот я сама ухожу, все, до свиданья, я пошла!
Этот трюк безотказен. При щелчке проворачиваемого в замке ключа мой пес немедленно бросает возлюбленную валяться где попало и мчится ко мне – подставлять шею под ненавистный ошейник.
Он сволакивает меня с четвертого этажа, и вот уже мы несемся над обрывом, он – хрипя и натягивая поводок, я – поминая страшную казнь колесованием, несемся вдоль каких-то кустов и гнущихся под ветром сосен, мимо смотровой площадки, домов, заборов… Мчатся тучи, вьются тучи, дождь припускает уже в полную свою волю, и я ругаюсь вслух и вслух же – благо никого вокруг нет – спрашиваю себя: за что мне это ежеутреннее наказание?
* * *Есть у него постыдная страсть – обожает носки, желательно «второй свежести». Отплясывая вокруг вернувшегося домой отца семейства, ждет, подстерегает это усталое движение скатывания, стаскивания с ноги носка. Вот оно, охотничье мгновение: хищный бросок! перехват жертвы! С носком в зубах он скрывается под стулом или столом. Начинаются долгие и сложные отношения с добычей. С полчаса, держа между лапами трофей, он молча зловеще выглядывает из-под казачьего чуба. Внимания требует, ревности, зависти, попыток напасть и ограбить. Иногда мы не реагируем на его рокочущие провокации, но чаще – уж больно забавен, бандитка лохматый, – вступаем в навязанные им отношения. И тогда-то он показывает всем кузькину мать! Вот тогда он – имущественник, защитник добычи, корсар, батька атаман!
Хвост при этом ходит ходуном. Он жаждет сразиться.
Тут мы придумываем разные мизансцены. Димка вкрадчиво тянет руку к скомканной добыче… Боря говорит: «Красавчик, угостите носочком!»
На эти наглые притязания он отвечает яростным и даже истеричным отпором.
* * *Но чаще, чем игры, он требует любви. Немедленного ее подтверждения. Ласкательные клички, которыми я его называю, зависят от его поведения в тот момент и от моего настроения. Все превосходные степени пущены в ход: собачка моя первостатейная, моя высоконравственная животина, мой грандиозный пес, невероятная моя псина, легендарный маршал Кондрашук, приснопамятный собачий гражданин, присяжный поверенный Кондратенков… и т. д.
Когда я заговариваю с ним, он склоняет голову набок, наставляет уши и прислушивается: что там она несет, эта женщина, есть ли хоть ничтожная польза в ее ахинее? Разумеется, он понимает все: интонации, намерения, много разнообразных слов. Сидя в моих объятиях, умеет выждать паузу в потоке нежностей и поощрительно лизнуть меня точно в нос: «Продолжай, я слушаю». Когда надоедает сюсюкать, разевает пасть и бесцеремонно, с подвизгиванием, зевает: «Ну, будет тебе чепуху молоть!»
Ко многим словам относится подозрительно.
Взять, например, богатое слово «собака». Известно, что это такое. Это он сам в разные минуты жизни – теплые, родственные, счастливые и нежные, например: «Собака, я преклоняюсь перед вашим умом!», или «Позвольте же по-человечески обнять вас, собака!», или (в драматические моменты выяснения отношений): «Ты зачем это сделал, собака подлючая, а?!»
Но у в общем-то родного слова «собака» есть еще другой, отчужденный смысл – когда им определяют других. Например: «Нет, туда мы не пойдем, ты же знаешь, там гуляют большие собаки».
Вообще мне интересно: как он разбирается со всем многообразием своих имен, которых у него много, как у египетского божества? С другой стороны, и у меня две клички – мама и Дина.
И на обе я отзываюсь.
Но есть слова, исполненные могучего, сакрального смысла, понятия, у которых масса оттенков: «гулять» и «кушать».
Узнает он их еще до произнесения, угадывает по выражению лица, что вот сейчас… вот-вот… Хвост ликует, трепещет, бьется…
– Ну что? – строго спрашиваю я, делая вид, что сержусь и ругать сейчас стану нещадно, что ни о какой прогулке и речи быть не может. Но его не обманешь. Страстно, напряженно он уставится на губы, окаменел, ждет… А хвост неистовствует.
– Что ж, ты небось думаешь, подлец, бесстыжая твоя рожа, что вот я сейчас все брошу… – грозно выкатив глаза, рычу я, но хвост бьется, бьется, глаза горят, – и выйду с тобой… ГУ?!. ГУ?!. (чудовищное напряжение, нос трепещет) Гу-у-у?! (хвост – пропеллер) ГУ-ЛЯ-А-АТЬ?!