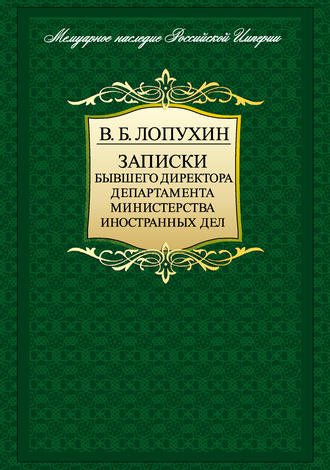
Полная версия
Записки бывшего директора департамента министерства иностранных дел
Старшая сестра моей матери Надежда Ивановна, настолько старшая, что ровесницею моей матери была дочь Надежды Ивановны от ее брака с Н. И. Христофоровым[65] Мария Николаевна, скончалась вскоре после выхода замуж. Мария Николаевна вышла за судебного деятеля, бывшего потом сенатором, Брока, но развелась с ним, чтобы стать женою служившего в ту пору по прокурорскому надзору Леонида Михайловича Князева, впоследствии губернатора тобольского, после вологодского, костромского, курляндского, а затем иркутского генерал-губернатора и после члена Государственного совета. От брака с Броком у Марии Николаевны были сын и дочь. Дочь Наталья вышла за двоюродного брата своей матери, упоминавшегося выше Ивана Николаевича Протасьева, комиссара по финансовой части Дальневосточного наместничества. От брака с Князевым у Марии Николаевны было четверо детей. Двое умерли в раннем детстве. Выжили одна дочь и сын Владимир, офицер Конного полка, убитый в самом начале мировой войны при наступлении в Восточной Пруссии.
Наиболее близка моей матери была тетушка Ольга Ивановна. Погодки, связанные тесною дружбою, сестры задались целью устроить свою жизнь так, чтобы и по выходе замуж не разлучаться. И им действительно удалось всю жизнь за редкими лишь перерывами прожить вместе. Ольга Ивановна семнадцатилетнею девушкою вышла за вдовца, много старше ее, имевшего уже от первого брака четырех детей, Анатолия Дмитриевича Батурина. Едва ли этот брак являлся результатом сознательного, сколько-нибудь продуманного шага со стороны невесты, по молодости ее лет. Едва ли имело место и серьезное с ее стороны увлечение. Говорят, убедила Ольгу Ивановну согласиться на предложение Батурина ее мать Мария Евлампьевна, исходившая из склонности большинства матерей того времени и того круга: при мало-мальски подходящем случае сбыть поскорее дочь замуж, чтобы не засиделась в девицах. Трудная на самом деле выпала задача Ольге Ивановне в семнадцатилетнем возрасте стать мачехою четырех пасынков. Но она для них была не мачехою, а подлинною любящею матерью. И не изменила своего любовного, полного заботливости отношения к ним, когда появились у нее и собственные дети. Всего менее заботился о своих детях их родной отец, черствый и грубый во внешних проявлениях своего отношения к ним. Когда дети подросли и их отдали в учебные заведения, Ольга Ивановна зачастую вносила задерживавшуюся мужем плату за их обучение из своих личных средств. Черствый и грубый, Анатолий Дмитриевич был вместе с тем развратный человек, искавший удовлетворения своей чувственности в постоянной смене объектов ее приложения. Он стал изменять жене на первых же порах после свадьбы. Ольга Ивановна это знала. Чувствовала себя оскорбленною. Но терпеливо сносила обиду, отдаваясь наполнявшим ее существование заботам о детях и пасынках. Анатолий Дмитриевич служил в Петербурге, где вскоре был назначен сенатором. Отец мой после недолгой службы в Петербурге в должности товарища прокурора окружного суда был переведен прокурором в провинцию – в Новгород, потом в Варшаву, откуда был назначен председателем окружного суда в Ярославль. На зиму семьи наши были разлучены. Но лето неизменно проводили вместе, сначала на дачах под Петербургом, в Старой Руссе, в Друскениках, а с приобретением Ольгою Ивановною имения в Ковенской губернии – в этом последнем имении. Одно лето обе семьи провели в Ярославле. Таким образом ими не прерывались самые тесные отношения. Жизнь тетушки и ее детей проходила у меня на глазах. Собственных ее детей было трое: сыновья Анатолий и Александр и дочь Ольга. Александр умер в раннем детском возрасте. Смерть его была первым горем[66] Ольги Ивановны. Но источником непрерывных и все увеличивавшихся мучений был сын Анатолий. Красивый мальчик, льстивший своею счастливою наружностью самолюбию отца, он даже с его стороны, при всей черствости Анатолия Дмитриевича, встречал только предупредительную ласку. Мать души в нем не чаяла. Оба родителя его баловали. Баловство, но не одно баловство, а, несомненно, и плохая врожденность, привели к тому, что в 12–13 лет Анатолий совершенно перестал учиться и не подчинялся никакой дисциплине. В случае наказания буйствовал. Он последовательно был исключен из трех учебных заведений. В этом же возрасте 12–13 лет стал пить и познал женщин. 15-ти лет он был уже подлинным алкоголиком, способным в состоянии опьянения ко всякому насилию и преступлению, и заболел сифилисом. Хотя и помещенный в больницу, продолжал пить, отчего от беспощадного недуга был только подлечен, а не вылечен. Жизнь в семье стала невозможною. Если ему отказывали в деньгах на вино и на женщин, то он громил квартиру, уносил ценные вещи и их закладывал. Неоднократно вступал в драку с отцом, выходя всякий раз победителем, так как в ярости был способен решительно на все, вплоть до убийства. Пришлось поселить его отдельно, выплачивая деньги на содержание. Тут он опустился до дна. Когда ему минул 21 год, его взяли в солдаты в гвардейскую конную артиллерию. Пить пришлось реже. Он был поставлен под особое наблюдение и в отпуск ходил не иначе, как в сопровождении дядьки. Все-таки пил. В промежутках отчаянно тосковал. Однажды после долгого выдержанного воздержания от вина в лагерях заполучил бутылку водки. Забрался на конюшню. Запрокинул бутылку с горлышка в рот и всю ее очистил. Покачнулся и упал мертвым. По-видимому, его сразил удар на почве незалеченного сифилиса. Мать его любила тем больше, что он был несчастным, больным неудачником, за которого она ни одной минуты не могла быть спокойною, что он не попадет под уголовную кару. Что приходилось матери переживать, вызволяя его из ряда серьезных историй? Спьяна он был однажды соучастником ограбления ювелирного магазина и при задержании на железной дороге стрелял в арестовавших его жандармов. В прекращении вечной мучительной тревоги за него мать не нашла все же утешения от его смерти. А за несколько лет перед тем Ольге Ивановне пришлось окончательно разъехаться с супругом, так как Анатолий Дмитриевич вступил в открытую связь с некой семейною дамою и совершенно забросил собственное семейство. Ольга Ивановна с дочерью Ольгою Анатольевною переехала к моим родителям в Ярославль, а потом вместе с ними жила в Петербурге. Лето обе семьи проводили в ковенском имении Ольги Ивановны. Ольга Анатольевна вышла в Петербурге замуж за друга детства, бывшего царскосельского гусара, крупного волынского помещика Бориса Сергеевича Мезенцева. Пасынки Ольги Ивановны Сергей и Дмитрий Батурины оба были военные. Красавец Сергей, адъютант командующего войсками Одесского военного округа, рано скончался от прогрессивного паралича. Дмитрий, добрый, душевный человек, безукоризненный джентльмен, вышел из юнкерского училища в офицеры в Смоленский драгунский полк, стоявший под гор<одом> Ковною, постоянно бывая в имении мачехи. В Ковно же женился на милой и хорошенькой барышне Ольге Александровне Скорняковой-Писаревой. Во время японской войны, командуя эскадроном Смоленского полка, остававшегося в России, отправился добровольцем в действующую армию в казачью часть. Воевал, участвовал в сражениях, но остался цел. При эвакуации заразился в Сибири тифом и скончался. Анатолий Дмитриевич Батурин, постепенно охладевая к разлучившей его с женою семейной даме, стал все более опускаться. Свое сенаторское звание он волочил по кабакам и увеселительным садам, ухаживая за проститутками. В обществе от него стали отворачиваться. Излюбленным им местом похождений был владимирский приказчичий клуб, представлявший собою в описываемое время подлинный женский базар.
* * *К помещичьему быту мне довелось ближе всего присмотреться, в восьмидесятых и девятидесятых годах прошлого столетия, в губерниях Ярославской и Ковенской (ныне входящей в состав автономной Литвы).
В Ярославской губернии, как вообще в северной и средней полосе прежней России, помещичьи усадьбы преимущественно были под один шаблон. От почтового тракта или проселка идет к усадьбе непременно аллейная дорога, обсаженная березою. Упирается в ворота. Вы въезжаете в просторный двор, густо заросший крапивой, лопухом, чертополохом и изборожденный протоптанными тропками от стоящего в центре главного дома к флигелям и службам. Дом преимущественно одноэтажный, но непременно с мезонином. Подкатываете к подъезду и проникаете в дом. Большие, многооконные, светлые комнаты. Старинная мебель, большею частью красного дерева. Карельская береза. Мебель почернелая, сильно подержанная, с изъянами. В углу от пола почти до потолка старинные английские часы с огромным циферблатом. Портрет императора Николая I и батальные картины. Деревянная позолоченная люстра empire и такие же стенные бра. Это – зала, порою одновременно служащая столовою. Иногда тут же более или менее старое фортепиано. Далее гостиная, стены которой сплошь увешаны портретами предков, писанными масляными красками, или старинными дагерротипами. Из позолоченных рам выглядывают старые, молодые, красивые, безобразные, порою совершенно неопределенные средние лица. Иные портреты так от времени потемнели, что ничего в них не разберешь. Мужчины в военных, гражданских мундирах, старинных фраках, с взбитыми коками и начесанными вихрами висков. Высокие воротники. Широкие обмотанные вокруг шеи галстухи. Дамы, девицы в высоких прическах, светлых платьях, сильно декольтированные, с неизбежным цветком в манерно согнутой руке. Старинная бронза. Часы с музыкой и пляшущими фигурами. Механизм большею частью попорчен. Из гостиной стеклянная дверь ведет на веранду. От нее, поддерживая балкон мезонина, поднимаются, в числе от четырех до шести, массивные деревянные колонны. Спустившись с веранды по ступенькам широкой деревянной лестницы в сад и обернувшись назад, вы созерцаете декорацию первого действия «Евгения Онегина»[67], изображающую дом Лариных. Мы попали в совершенно такой же дом помещичьего типа, воспроизводившегося во всей средней полосе прежней России. В доме комнат много. Сад большой, запущенный, две-три клумбы цветов перед верандою и обчелся. А дальше густая трава, заросшие сорными травами дорожки, еле заметные тропинки. Сад незаметно переходит в парк, а последний, по своей запущенности, столь же незаметно в лес. Попадаются следы разрушенных беседок. Подходим к широкому, близ берегов зацветшему пруду. За ним виднеется маленькая, покосившаяся баня. К парку примыкает церковная ограда. Небольшая сельская церковь, погост, дом священника.
В одном таком имении хозяйничал владелец-земец, бывший измайловский офицер князь Дмитрий Семенович Урусов. Он с шестидесятых годов прошлого века проводил в своем хозяйстве крайне своеобразно им усвоенные принципы рационализации и режима экономии. Срубил фруктовый сад, как не оправдывавшую расходы роскошь, выкорчевал и обратил в огород и пашню. Признав нерациональною дорожную аллею от усадьбы к соседней деревне, ибо отбрасывавшаяся аллеею тень задерживала рост примыкавших хлебных посевов, князь срубил и аллею. Разрушил и снес все казавшиеся ему нерациональными службы и постройки. Находил разорительным содержание в доме окон, требовавших время от времени ремонта рам и нового по мере разбития стекол остекления. Хотел половину окон замуровать. Княгиня Варвара Силовна заставила его от этого плана отказаться, категорически заявив, что если он замурует хотя одно окно, то она не переступит порога деревенского дома и будет проводить лето в городе. Разрушительные фантазии князя были куда менее вредны созидательных проектов других помещиков, фантастичнее один другого. Поэтому его имение, хотя еле-еле, держалось и сохранилось за семьею и после смерти князя. В земстве князь стремился осуществлять те же своеобразные рационализацию и режим экономии. Но ему не давали ничего разрушать, хотя бы, с его точки зрения, и нерациональное. Зато он ничего не созидал, и за время его председательства в губернской управе земство не несло, по крайней мере, непроизводительных расходов. Только уж больно он был горяч на земских собраниях. Его критика действий земских людей неизменно сопровождалась негодующим выкриком, что «такого-то земца надо спустить в отхожее место». Это, разумеется, не нравилось, и князя за такие выкрики не любили, но считались с ним. Князь был взглядов просвещенных, твердый, по отношению к власти лояльный, и на таких, как он, власть могла опираться. Жена его Варвара Силовна, из петербургской дворянской семьи Баташевых, отличалась большою манерностью и жеманством, которыми подчеркивала деликатность и тонкость воспитания. Наружно была отменно набожная, но зла на язык. Все косточки-то ближнего она перемоет. Все-то подметит и все осмеет. Свое насмешливое злоязычие она передала и трем своим дочерям – Варваре, вышедшей впоследствии замуж за сына упоминавшегося выше сенатора Калачова, бывшего офицера, а потом земского деятеля Геннадия Викторовича, Екатерине и Марии. Насмешливые злючки-княжны были, за всем тем, интересные. В девицах не засиделись. Екатерина Дмитриевна вышла замуж за упоминавшегося выше директора Департамента полиции А. А. Лопухина.
Из сыновей князя упоминавшийся выше в настоящих записках старший Сергей, рано женившись по окончании Московского университета, засел хозяйничать в имении жены в Калужской губернии и служил там по выборам. Впоследствии был в одной из центральных губерний вице-губернатором, а потом бессарабским губернатором, стяжавшим себе большую популярность среди еврейского населения. Его перу принадлежит обратившая в свое время на себя внимание[68] книжка «Записки губернатора»[69]. В губернаторах не удержался, так как был признан не в меру либеральным. В 1905 г., с образованием первого объединенного кабинета министров под премьерством С. Ю. Витте, был назначен товарищем министра внутренних дел. И здесь не удержался, опережая своими действиями развитие событий. Вступил в партию кадетов, баллотировался в первую Государственную думу и попал в число ее членов. После роспуска Думы подписал известное Выборгское воззвание, за что положенный срок отсидел и на этом закончил свою политическую карьеру[70]. Вернулся к земле. Был человек умный, остроумный и обаятельный.
Колоритную фигуру представлял собою брат князя Дмитрия Семеновича генерал-майор в отставке князь Сергей Семенович Урусов. Гигантского роста, красивый, бодрый старик с большою окладистою бородой, большими умными глазами. Из офицеров Лейб-гвардии Конного полка отправился добровольцем на защиту Севастополя, выдержав всю его одиннадцатимесячную осаду, командуя сначала полком, а потом бригадою[71]. Он поражал своим бесстрашием не только своих, но и неприятеля, сознательно его щадившего. «Ne visez pas le grand»[72], – раздавалась команда из французских окопов. По окончании войны производил смотр его героической бригады прибывший из Петербурга штабной генерал, на войне не побывавший и пороха не нюхавший. Он возмутил князя мелкою придирчивостью к солдатам по поводу недостаточно блестевших пуговиц на мундирах и других мелочей. Когда за вовсе отсутствовавшую пуговицу ревизующий генерал одного бравого ветерана ударил, князь с восхитительною непосредственностью приказал солдату выстрелить в ревизора, добавив к командной формуле своим раскатистым басом: «Стреляй в эту сволочь». Солдат команду выполнил. Находчивость побудила его, однако, выстрелить выше цели. Князя по квалификации слишком видного севастопольца за этот подвиг только «убрали». Он удалился будировать в подмосковное имение, невдалеке от Троице-Сергиевской лавры, оставленное ему в пожизненное владение рано скончавшеюся женою. Там, в опальном уединении, он впервые занялся высшею математикою, издав замечательные труды, частью перепечатанные в мемуарах Французской академии. Изучил древний еврейский язык, а потом весь ушел в оккультные науки. Попутно настолько усовершенствовался в шахматной игре, что приобрел, в качестве выдающегося шахматиста, широкую[73] известность, и к нему приезжали в имение с<о> специальною целью с ним сразиться знаменитости из-за границы. Князь был большим приятелем соратника своего по Севастополю графа Льва Николаевича Толстого. Часто наезжал к нему. Крестил нескольких его детей. При свиданиях происходили нескончаемые споры, порою заканчивавшиеся, вследствие повышенного темперамента обоих спорщиков, временными размолвками между ними. Потом дружба восстанавливалась, горячие споры возобновлялись. Хозяйством в имении князь непосредственно не занимался и не принимал участия и в земских делах. После долгого своего затворничества в имении, стариком, хотя и очень бодрым, но уже около 60 лет, внезапно появился у своего брата Дмитрия Семеновича. Не избег очарования своих племянниц, явно влюбившись в двух старших. Ревновал ко всей ухаживавшей за племянницами молодежи. Терзался выходом каждой из них замуж. Но уже не мог оторваться от семьи брата и все последние годы прогостил частью у него, частью у замужних его дочерей, всячески их балуя, развлекая, одаривая за счет сбережений, накопленных за время сидения в подмосковном имении.
В числе ярославских помещиков был еще другой севастопольский герой, чье имя отмечено в летописях войны 1854–55 гг.[74], моряк Михаил Федорович Белкин. Ему принадлежало прекрасное имение на впадающей в Волгу реке Которосли, в стороне от московского тракта, с которого сворачивали к нему от расположенного на этом тракте села Кормилицына, невдалеке от имения поэта Н. А. Некрасова при селе Карабихе. Михаил Федорович, не только доблестный герой войны, но и редкой души прекрасный человек и хороший служака, продолжавший и после войны служить в Морском ведомстве в Петербурге, был хозяином своего имения отменно плохим. Хозяйства он не знал и им не занимался, наезжая в имение с семьею только летом на дачу. Сдавал имение в аренду основательно его грабившим местным кулакам. Дела его были в настолько плачевном состоянии, что сдавался на лето внаем под дачу и главный дом в имении, и Михаил Федорович ютился с семьею в небольшом флигельке. В другом проживал арендатор имения. В местных выборных учреждениях Михаил Федорович участия не принимал.
Ближайшим его соседом был бывший аракчеевский адъютант, старик-помещик Кузьмин, замечательный настолько крепкою старостью, что умер 97 лет от роду в поле от удара, наблюдая за полевыми работами. 93 лет он еще танцевал мазурку. Этот крепкий старик был и помещиком крепким. И име[75]
Немного дальше по Московскому тракту хозяйничал в имении Кобякове отставной гусар начала прошлого века Александр Григорьевич Высоцкий. Расчетливый был старик. И сохранил и имение, и недвижимость в самом городе Ярославле. Но постепенно и его дела расстраивались. Имение запускалось. Расчетливость не могла заменить недостававших Александру Григорьевичу и так и не усвоенных им за всю его долгую жизнь навыков и знаний в сельском хозяйстве, за отсутствием склонности к работе на земле.
В имение в Даниловском уезде вернулся в начале восьмидесятых годов прошлого столетия из долгой ссылки по политическому делу в Сибири Яков Афанасьевич Ушаков. Я его хорошо знал и был в близких товарищеских отношениях по университету с его старшим сыном Константином Яковлевичем. Однако естественно меня интересовавшие обстоятельства и причины ссылки Якова Афанасьевича мне так и не удалось узнать от него самого или от его сына[76]. Непонятная его и его семьи скрытность в этом отношении давала повод злым языкам утверждать, в умаление общественных симпатий к «пострадавшему», что пострадал он не за убеждения, каковых будто бы у него никаких и не было, не за деяния, которых не совершил, даже не за намерения, которых не имел вовсе, а лишь потому, что по легкомыслию совсем еще молодым человеком дал себя вовлечь в конспиративную организацию, не зная, что ею замышляется конспирация. Полагал, что дело сводится к либеральным разговорам, а полиберальничать он был не прочь. Дело было модное и создавало некий ореол. Однако организация оказалась конспиративная. Яков Афанасьевич будто посетил ее собрание только один-единственный раз. И в этот единственный раз был со всеми участниками собрания арестован, судим и сослан. Так говорили злые языки. Так как эта их версия никем не опровергалась, то она и укрепилась. В общем она оказалась для Якова Афанасьевича полезною. Устанавливавшееся ею отсутствие «убеждений, деяний и намерений» помогло Якову Афанасьевичу восстановиться в правах состояния и определиться на службу, да еще по администрации – непременным членом губернского по земским и городским делам присутствия (апелляционная инстанция по жалобам на решения земских начальников). А то обстоятельство, что за идею или без идеи Яков Афанасьевич все-таки «пострадал», возвело его в Государственный совет по выборам от губернского земства. Так как подлинной крамолы в его прошлом, тем не менее, как будто не было, то избрание было встречено сочувственно и правительственными кругами. Словом, все устроилось к лучшему. Яков Афанасьевич был безмерно счастлив своему внедрению в Государственный совет. Пытался играть в нем роль, но это ему не удалось, так как талантами все-таки не отличался. По внешности – грузный, осанистый, в очках, с большою бородою. Аграрием Яков Афанасьевич был плохим.
В Государственный же совет по выборам проник ранее Я. А. Ушакова другой ярославский помещик, Мологского уезда, Митя Калачов, именно Митя – мало кто его называл иначе, полным именем Дмитрия Викторовича. Митя был старший сын упоминавшегося в начале настоящих записок сенатора Виктора Васильевича Калачева. Образования был неважного. И поведения, как его характеризовали, туманного; но способный и ловкий был человек. И душа общества: веселый, разговорчивый, остроумия неисчерпаемого. Рано стал покучивать и огорчал родителей. Влезал в долги, родители платили. Потом суровый папаша перестал платить. Митя стал путаться и бедствовать. Достоверно известно, что стащил у отца дорогую шубу и заложил. Потом полный туман, какая-то дырка в его жизни, что-то он натворил такое, после чего надолго совсем пропал. В семье на расспросы о нем не отвечали, как будто его вовсе никогда и не было. Пронесся слух, будто Митя был вынужден, вследствие содеянных каких-то нехороших поступков, эмигрировать в Бразилию. Думаю, что эмигрировал он не так далеко, так как впоследствии при упоминании о Бразилии, при всей его словоохотливости и находчивости, о Бразилии он рассказывать затруднялся и так же о ней умалчивал, как молчала семья о нем, когда он отправился в эту самую Бразилию. Года два спустя мы застаем Митю, сына весьма достаточных почтенных родителей, в совершенно растрепанном виде скрывающимся у приютившего его добрейшего чиновника особых поручений при ярославском губернаторе Михаила Ивановича Хрущова в жалком его номерке меблированного притона, где-то на Власьевской улице в Ярославле. Митя изображает развязанность, громко хохочет, жестикулирует. Но ясно, что дела его совсем нехороши. Потом, потом все хорошо устраивается. Глядишь, Митя вернулся к родителям, и как будто никогда нигде и не пропадал, и в Бразилию не ездил. Устраивают ему вскоре какой-то ценз в Мологском уезде, и вот он уездный предводитель дворянства. Потом женится на заведомо дефективной, но богатой двоюродной племяннице, забирает себе и тещу – свою двоюродную сестру, а кстати и все состояние и жены, и тещи. Жизнь строится на широкую ногу: шампанское льется рекой, постоянные, отменно хорошие, умелые и тонные (так!) приемы и угощения у себя дома. Наезды в Петербург и Москву, гостиницы, рестораны, обеды и ужины с цыганами, словом, благодать. С женою и тещею становится взыскателен и строг. Окончательно их обезличивает, забирает в руки и из их же денег скупо отпускает им на расходы, всячески их урезывая, копейки и гроши. Сам бросает тысячи. Он хозяин прекрасного имения близ исторического, по князю Курбскому, села Курбы. И докатывается до Государственного совета.
Стоит ли продолжать? Средние, ничем не примечательные, постепенно разоряющиеся помещики эпохи дворянского оскудения Волковы, Яковлевы, Михайловы, Макаровы, Быченские, Хомутовы и прочие. Имя им легион. Сыновья их, те, что поудачнее, уходят в столицу, похуже – оседают на земле, попадают в дворянские и земские учреждения, потом комплектуют Государственную думу или выборную половину Государственного совета. Митя еще индивидуален. Он дошел до подлинной или хотя бы до вымышленной Бразилии и сумел шумно и красиво пожить. А не угодно ли посмотреть на Сережу Б. Он также земец и правит земским делом, но ему ни до какой Бразилии не додуматься. Он вообще ни думать, ни говорить не умеет. Только мычит и славен лишь тем, что в бытность в Тверском кавалерийском, наинизшего разряда военном училище, прыгая через деревянную кобылу, сломал кобылу, себе нисколько не повредив. Событие это долго хранилось в памяти восхищенных современников.
Много было и помещиков-абсентеистов. Жили в свое удовольствие за счет доходов или закладов своих имений, преимущественно в столичных городах. В губернию наезжали редко. Временно оседали, если, глядишь, кого-нибудь выберут на заманчивую должность губернского предводителя дворянства. Ею обеспечивался генеральский чин и другие отличия[77]. Так промелькнули в Ярославле князь Шаховской, позже Михалков, позднее князь Куракин.

