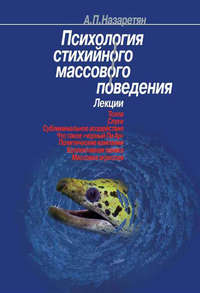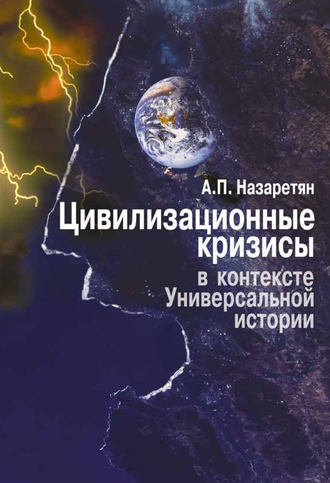
Полная версия
Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории
В данной связи еще более важным представляется второе обстоятельство: технологический и экономический прогресс в регионах-лидерах дает вполне ощутимые результаты и в регионах-аутсайдерах. Те же расчеты, которые отражают растущий разрыв между такими регионами, обнаруживают совсем иную картину при переходе от сугубо экономического к «человеческому» измерению, включающему детскую смертность, ожидаемую продолжительность жизни, уровень грамотности, доступность информации и т. д. Динамика этих индикаторов отчетливо демонстрирует сокращающуюся дистанцию между полюсами [Фридман Л.А., 1999].
На протяжении XX века практически во всех регионах планеты люди стали жить в среднем значительно (до 2 раз) дольше, будучи стабильнее обеспечены питанием, имея лучший доступ к медицине, образованию и информации, чем когда-либо ранее. Труднее поддаются оценке политические показатели. Мы можем оспорить конкретные критерии, по которым эксперты газеты «Нью-Йорк Таймс» рассчитали количество людей, живущих в условиях демократии и диктатуры (соответственно 3,1 млрд. и 2,66 млрд.) и дали основание президенту У. Клинтону в инаугурационной речи 1996 года заявить, что впервые в истории человечества «демократическое» население составляет большинство (см. [Schlesinger A., 1997]). Но бесспорно то, что за сотню лет число землян увеличилось в 3,5 раза и, благодаря вовлечению многоэтничных масс в глобальный исторический процесс, небывало возросли объем и содержание понятия «человечество».
К.А. Тимирязев [1949, с.596] писал, что вся разумная деятельность человека есть «борьба с борьбой за существование». Развивая эту мысль, Б.Ф. Поршнев [1974] усматривал в противоборстве с естественным отбором сущность социальной истории. Сегодня можно добавить, что XX век стал эпохой решающей победы над этим жестоким природным регулятором. Вместе с тем он окончательно вытеснил на периферию общественной жизни архаические формы искусственного отбора.
Этнографическая литература полна сообщений о том, с какой легкостью первобытные племена отделываются от «лишних» детей, особенно женского пола, – путем прямого убийства, жертвоприношений, оставления беспомощных младенцев на покидаемых стоянках (где они становятся легкой добычей хищников) и т. д., – что служит одним из средств демографического регулирования [Леви-Брюль Л., 1930], [Леви-Стросс К., 1984], [Фрэзер Дж., 1983], [Clastres P., 1967], [Diamond J., 1999]. В посленеолитических культурах инфантицид не носил столь массового характера. Хотя такая традиция сохранялась и в дальнейшем, случаи жертвоприношения детей сопровождались уже, как правило, эмоциональными переживаниями родителей. Это отчетливо отражено во многих текстах, включая Коран, Ветхий и Новый Завет.
Еще в середине XX века из некоторых скотоводческих племен Ближнего Востока от путешественников поступали сведения о страшном древнем обычае приносить в жертву старшего сына хозяина в честь особенно важного гостя. В конфуцианском Китае три дня после рождения младенец не считался человеком, и его умерщвление не осуждалось юридически или морально; когда же в 70-е годы XX века китайское руководство волевым указом ограничило численность семьи одним ребенком, некоторые молодые родители стали уничтожать первенцев-девочек, чтобы в последующем иметь мальчика [Шафаревич И., 1988]. Это приобрело такой размах, что обернулось статистически значимым (в миллиардном Китае!) изменением соотношения мужчин и женщин, родившихся в 70-е годы.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Р. Руммель [Rummel R.J., 1990, p.XI] утверждает, что «с 1900 года вне войн и других вооруженных конфликтов правительствами было убито… 1194000000 человек, из коих 95200000 – марксистскими правительствами». В такой формулировке приведенные числа представляются завышенными и даже политически тенденциозными. Часто «превентивные» массовые репрессии осуществлялись во время войн, но в глубоком тылу. Они включены в наш расчет военных жертв.
2
Подробнее о содержании, истории и предыстории элевационизма см. [Назаретян А.П., 1991, 1992].
3
Возможно, что законы термодинамики перестают соблюдаться в физике черных дыр, но и это допущение, принятое рядом ученых, не снимает вопрос о причинах поступательной эволюции с образованием качественно новых форм организации.
4
Со строго лингвистической точки зрения, термин не вполне корректен, так как складывается из латинского и греческого корней. Но с тех пор, как европейская наука усвоила изобретенный О. Контом термин «социология», она (наука) утеряла изысканную чувствительность к подобного рода варваризмам.
5
В более развитой и завершенной версии гуманизм, отбросив богословскую оболочку, превратился в последовательно светское мировоззрение. Человек не создан по чужому образу и подобию, не произведен и не подсуден верховному субъекту: он сам, его дух, мышление, воображение и воля – высшие реальности развивающегося мира.
6
Даже в ХХ веке мемуаристами описаны характерные эпизоды, когда за предложением заключить союз следовал вопрос: «Против кого?» – и если вопрос не получал взаимоприемлемого ответа, союз не складывался. Поэтому А. Гитлер, изрекая, что коалиция, не имеющая целью войну, бессмысленна, как юродивый, озвучивал общеизвестную истину, признавать которую считалось уже неприличным.