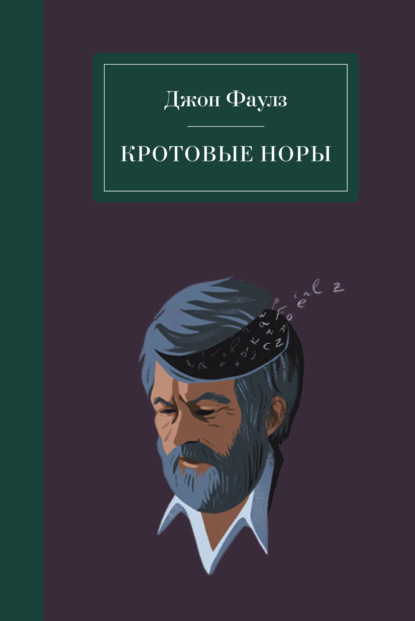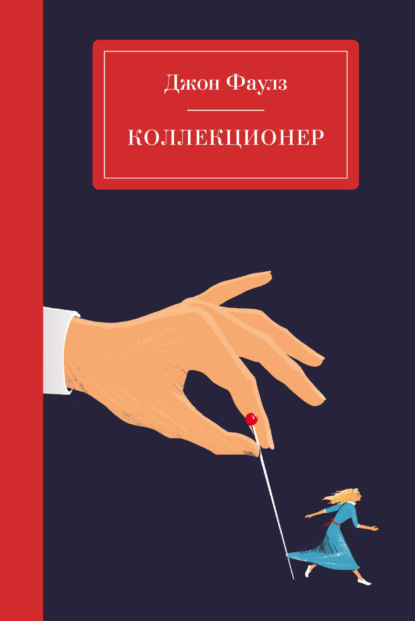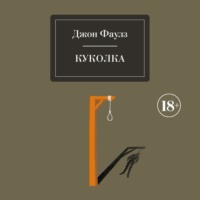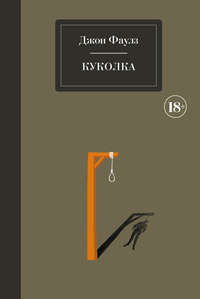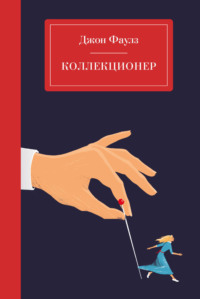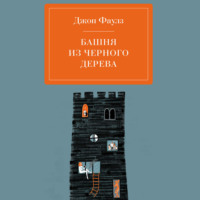Башня из черного дерева

Полная версия
Башня из черного дерева
Язык: Русский
Год издания: 1974
Добавлена:
Серия «На берегах фантазии. Проза Джона Фаулза»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу