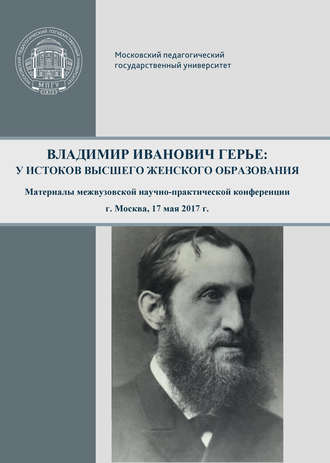 полная версия
полная версияВладимир Иванович Герье: у истоков высшего женского образования
Цель данной статьи – попытаться раскрыть внутренний мир В.И. Герье в его эмоциях, переживаниях, сомнениях, чувствах и принципах, опираясь на его письма. Проблема этичности вынесения личных писем на научное обсуждение долгое время останавливала нас от их публикации. Однако письма содержат целый ряд новых фактов биографии, высказываний Герье о политических событиях, государственных деятелях, ученых, и, главное, позволяют с иной стороны посмотреть на личность этого человека, что будет способствовать его более объективной оценке.

Рис. 1. Портрет А.А. Чичериной
В Государственном историческом архиве РФ хранится комплекс писем В.И. Герье к Борису Николаевичу и Александре Алексеевне Чичериным. Мы обратились к нему, ожидая увидеть переписку двух сподвижников. В.И. Герье и Б.Н. Чичерин были коллегами по Московскому университету, соавторами известной книги об общинном землевладении [Герье 1878], вместе работали в Московской Городской Думе [5, с. 158-168]. Однако из более чем 170 писем лишь пять адресовались Борису Николаевичу, а остальные – его супруге. Потребовалась большая работа по их обработке, ибо письма не систематизированы, некоторые без даты, многие находятся в неудовлетворительном состоянии. Самое раннее письмо датировано 1865 г., самые поздние (не датированные) мы, исходя из анализа содержания, относим к 1916–1917 гг.
Возможно, сохранились не все письма Герье к Б.Н. Чичерину. Так, в фонде Герье хранятся более 40 писем Б.Н. Чичерина к Владимиру Ивановичу [3, ед. хр. 63, 66, 67]. Вызывает вопросы и тот факт, что в личном архиве В.И. Герье, формированием которого занимались его дочери, сохранилось всего11 писем А.А. Чичериной к В.И. Герье [Там же, ед. хр. 74]. Анализ переписки демонстрирует активный диалог корреспондентов, и писем должно было быть намного больше. Уже высказывалось предположение, что при формировании фонда дочери Герье, отбирая письма отца, изымали отдельные по разным соображениям [7, с. 283].
Анализ личных взаимоотношений корреспондентов важен для понимания того, кому и почему сообщал о себе откровенные сведения В.И. Герье. В одном из писем к А.А. Чичериной он объясняет свою искренность тем, что это «случай сделать несколько интересных психологических наблюдений, но я не имел времени анализировать самого себя, хотя это весьма полезно и необходимо» [2, л. 108 об.].
Александра Александровна Чичерина (1845–1920), в девичестве Капнист, была родной сестрой однокашника Герье по Московскому университету, его «товарища юности» [Там же, л. 225] Дмитрия Алексеевича Капниста и Павла Алексеевича Капниста, попечителя Московского учебного округа. В.И. Герье познакомился с А.А. Капнист в феврале 1865 г., во время пасхальных праздников в Риме, когда находился в своей первой зарубежной научной командировке.
Анализируя содержание всего комплекса писем, можно выделить несколько этапов полувековых взаимоотношений Владимира Ивановича и Александры Алексеевны. Во время их первой встречи В.И. Герье находился в подавленном состоянии. В 1860–1861 гг. он давал уроки воспитаннице и племяннице А.В. Станкевича Евдокии (Авдотье) Ивановне Токаревой (рис.2) [Прим. авт.: Близкие люди звали Евдокию Авдотьей, а В.И. Герье – Душой. В зависимости от контекста в статье используются все три имени]. «В первый раз в моей жизни на горизонте промелькнула мысль о женитьбе» – писал он позже [Там же, 108 об.]. Однако к моменту его отъезда заграницу в 1862 г. семья Станкевичей, по мнению мнительного В.И. Герье, дала ему понять, что он нежелательный жених для Авдотьи. Неудачным оказалось и посредничество его друга Г.И. Кананова, который по его поручению, в 1864 г. пытался поговорить с девушкой о нем: «Я был уверен, что она любит другого, и был в отчаянии» [2, л. 109].

Рис. 2. В.И. Герье с супругой Евдокией Ивановной и внуком Сергеем Матвеевым. Август 1902 г.
Знакомство с Александрой пробудила в душе молодого человека новые надежды. Позже он оценивал это событие, как «встречу в жизни с ангелом небесным, посланным в утешение» [Там же]. Через всю жизнь он пронес особые чувства к пасхальным праздникам, которые всегда напоминали ему их первую встречу в Риме, «когда Вы сами были олицетворением расцветающей пасхальной весны» [Там же, л. 75]. Но молодой человек осознавал, что бедный сирота, без званий и богатства, не пара красавице-аристократке.
Чувства Владимира к Александре сохранились на всю жизнь, перейдя в духовную близость. Он называет ее сестрой, другом, родственной душой. И, судя по письмам, Александра поддерживала его в трудные минуты. «В последние годы, когда тоска и отчаяние так часто овладевали мною, только Ваше участие поддерживало мои силы, заставляло меня любить жизнь, и переписка с Вами была моим главным утешением», – пишет он в 1867 г. [Там же, л. 6]. И еще одна многозначительная фраза: «Я думаю, что кроме Вас, никто за меня не молится» [Там же, л. 164].
Новый этап отношений начинается в 1867 г., после женитьбы В.И. Герье на Е.И. Токаревой (она была дальней родственницей Александры, ее «милым другом детства» [3, ед. хр. 74. л. 11]. В письме от 12 июня 1867 г., которое можно считать исповедью, содержится описание любви и сватовства Владимира к Авдотье [2, л. 108–110 об.]. Уже после свадьбы, которая состоялась в поместье Станкевичей Курлак 27 августа 1867 г., Герье пишет в ответ на поздравление Александры: «Я могу взамен только одного пожелать, того, что я давно для Вас желал – такого же счастья, какое я нашел в любви и семейной жизни» [Там же, л. 163]. Однако переписка не прекращается, более того, Герье продолжает сообщать Александре о всех подробностях семейной жизни [Там же, л. 246]. Описывая первые дни после женитьбы, Герье пишет: «Для семейного счастья нужно столько условий, о которых прежде не думаешь, тут играют важную роль столько мелочей, которые прежде остаются незамеченными. Новые родственники, характер, вкусы и привычки другого лица, свой собственный характер и такие оттенки его, о которых прежде сам ничего не знал» [Там же, л. 163 об.].
В 1871 г. А.А.Капнист выходит замуж за Б.Н. Чичерина. Две молодые семьи начинают «дружить домами». Семейство Герье приезжает на лето в поместье Чичериных Караул. В поместье Станкевичей Курлак возник замысел книги двух ученых об общинном землевладении в России [5, с. 159]. В Москве Чичерины посещают дом Герье [2, л. 97]. К этому времени относится сохранившаяся переписка Евдокии Ивановны и А.А. Чичериной [2, 209 л.]. Письма самого Герье к Александре Алексеевне этого периода содержат больше информативных сведений, чем эмоциональных высказываний. В письмах неизменная просьба передать привет Б.Н. Чичерину, рассказ о семейных событиях, рождении детей, болезнях, поездках. Не акцентируя внимание на своих чувствах к супруге, он всегда неизменно хвалит ее: «У Души очень хороший глаз, и она после меня всегда находит опечатки или пропуски запятой» [2, л. 71 об.]. Однако Владимир Иванович продолжает советоваться с Александрой Алексеевной: «Ваши всегда обдуманные советы для меня имеют большое значение» [Там же, л. 38].
В феврале 1904 г. умирает Б.Н. Чичерин и письма Владимира Ивановича к его вдове становятся более частыми, содержат слова поддержки и сострадания. В апреле 1905 г., в тяжелое время, когда Герье прекращает преподавание в Московском университете, а занятия на Высших женских курсах отменяются из-за революционных волнений, он, по совету жены, находящейся за границей, отправляется в поместье к Александре Алексеевне. В письмах к супруге он подробно рассказывает о своей поездке, самочувствии А.А. Чичериной, дает оценки деревенской жизни [4, ед. хр. 426. л. 1–6].
5 октября 1914 г. умирает Авдотья. Именно Александре Алексеевне Владимир Иванович первой сообщает трагические подробности смерти жены, делится с ней своим горем [2, л. 67–67 об.]. Письмо, датированное самим днем смерти Авдотьи, сохранилось в плохом состоянии. Судя по очень неразборчивому почерку, обрывистости мыслей, Владимир Иванович писал его в волнении, в несколько приемов (имеется приписка от 6 октября). Постигшее его горе он оценивает, как «конец исполнившихся надежд» [Там же, л. 214 об.]. По сути, это письмо можно оценить, как необходимую в тот час для него исповедь с целью облегчить душевные страдания. Таким образом, не дочери и родные, а именно Александра Алексеевна была для него в тот момент самым близким человеком. Часть листа письма оборвана, при этом именно там, где должны были находиться подробности обнаружения тела. Возможно, это было сделано Чичериной. Описания подробностей смерти в семье Герье были табуированы, но, судя по всему, у Авдотьи Ивановны произошел сердечный приступ (возможно, инфаркт или инсульт), падая, она опрокинула на себя горящую керосиновую лампу и сильно обгорела. В.И. Герье корил себя за то, что в тот момент она была дома одна, «чего я себе простить не могу» [2, л. 67–67 об.]. В письме на 40-й день смерти он пишет о воспоминаниях, «которые вызывают сожаления об упущениях или недостаточно использованных случаях для содействия спокойствию и счастью». Он сетует, что «в этих случаях раскаяние не помогает и не снимает гнетущего чувства» [Там же, л. 235–235 об.].
С конца 1914 г. наступает новый этап переписки. В.И. Герье пишет письма А.А. Чичериной практически еженедельно. Эти подробные письма, по сути, заменяют ему дневник. 19 августа 1916 г. он отмечает: «Ваши письма для меня как солнечный свет, дают жизненную силу» [Там же, л. 169]. В другом письме, обращаясь к Александре Алексеевне, он приводит цитату Л.Н. Толстого: «Знаете ли Вы, что значит любить близкую Вам душу? Не человека, а душу его… это несравненно сильнее всякой земной любви» [Там же, л. 13–13 об.].
Трудно оценить чувства Александры, так как ее ранние письма к Герье не сохранились. В последние годы она вспоминает о «многолетних связях, сотканных из дружеских чувств и воспоминаний о прошлом». Обращаясь к Владимиру Ивановичу, она пишет: «Мы с Вами очень старые друзья – остались доживать век – поддерживая и ободряя один другого» [3, ед. хр. 74. л. 1, 14]. Для Владимира Ивановича отношение к Александре Алексеевне было чем-то более значимым, но никогда не выходило за рамки платонических чувств [2, л. 142]. Она была для него исповедником, которому он поверял тайны души, не раскрываемые даже перед родными. Переписка обрывается внезапно, возможно, по причине плохой работы почты в 1917 г.
Каким же предстает внутренний мир Герье по этим письмам? «Я с детства чувствовал около себя пустоту, потому что у меня не было лица, к которому я мог бы питать братское расположение и нежность. У меня большая способность к братской любви, но эта способность даром пропала, потому что у меня не было сестры, на которую я мог бы перенести мой богатый запас братской любви, накопившейся за столько лет», – пишет он [2, л. 219]. Владимир остался круглым сиротой в 12 лет. Его младший брат Иван был глухонемым и всю жизнь проработал цеховым Московского кузнечного цеха [4, ед. хр. 241. л. 6]. Несмотря на то, что Владимир заботился о младшем брате, а затем опекал его дочь Лидию, свидетельств душевной близости между братьями нет. Судя по письмам, в глубине души В.И. Герье переживал свое сиротство, и смутные воспоминания о родителях ранили его душу. Скорбя о смерти жены, он пишет о навязчивых, мучительных, гнетущих воспоминаниях, «что я испытал и при утрате других близких мне лиц – с самого детства» [2, л. 235].
Герье осознает свою излишнюю мнительность: «Есть такая несчастная натура, которая во всем находит повод к страданиям. То, что для других бывает источником счастья, им дает толчок мучениям. Вместо того, чтобы наслаждаться настоящим и [иметь?] инстинктивные надежды на будущее, они боятся будущего и не чувствуют настоящего» [Там же, л. 109]. Он был неуверен в себе и боялся быть превратно понятым окружающими. Вспоминая о первом знакомстве с Авдотьей, он пишет: «Я был тогда очень скромен, но при этом горяч и боялся мысли, что меня могут отвергнуть» [Там же, л. 108об.]. Любопытны его мысли о различиях женской и мужской любви: «Женщины добрее, они любят, кажется более про себя, так сказать. Но мужчины в любви эгоисты. Они хотят, во что бы то ни стало достигнуть своей цели. Если их любовь искренняя и натура их сильна и способна к увлечениям, любовь становится задачей их жизни, как будто в их жизни уже нет других задач» [Там же, л. 109 об.–110].
Степень страстности натуры Владимира Ивановича можно оценить по его письмам к Авдотье Ивановне, написанным непосредственно перед свадьбой, где содержатся десятки поэтических эпитетов, обращенных к невесте [3, ед. хр. 9. Л. 1–45]. Семейная жизнь складывалась благополучно, в браке родились три дочери (Елена, Ирина и Софья) и сын Александр, умерший молодым, в 1893 г. Н.П. Корелина писала: «Семья Герье всегда представлялась мне идеалом настоящей хорошей семьи; меня восхищало близкое духовное общение мужа и жены, их глубокое взаимное уважение; взаимная помощь в работе, их любовное, заботливое отношение к детям, без излишнего неразумного баловства» [3, ед. хр. 16. Л. 8].
Однако в письмах к Александре Владимир Иванович отмечает, что его любовь к Авдотье была мучительная, «вследствие сдержанного, серьезного характера моей Души» [2, л. 109 об.]. Действительно, анализируя семейную переписку Герье, невольно обращаешь внимание на различие между его пространными, полными поэтических оборотов письмами к жене и более сдержанными письмами Авдотьи Ивановны к мужу, в которых основное внимание уделяется описанию происшедших событий [6, с. 113]. Таким образом, «железный телом и духом человек», как называл его А.А. Кизеветтер, в своей переписке предстает ранимым, скромным, страдающим от недостатка тепла человеком, вынужденным в обыденной жизни подавлять свои эмоции.
По письмам Герье можно понять его отношение к дочерям и внуку. Старшая дочь Елена (в семье ее звали Лёля), пожалуй, самая ответственная и инициативная. С 1898 по 1917 гг. она на общественных началах работала в Училищной комиссии при Московской Городской Управе. С началом Первой мировой войны, по словам Герье, «Лёля поглощена своим лазаретом, школами и политическими новостями» [2, л. 113 об.]. Он сетует, что дочь «с раннего утра исчезает в лазарете городском, где она состоит попечительницей и возвращается так поздно, что мы ее не видим» [Там же, л. 191]. Кроме того, Елена создала специальную городскую мастерскую, которую Герье называл «Швейный комитет». Он пишет: «Лёля в Москве усердно работает по целому ряду городских и патриотических учреждений и привозит из города новости, распространяемые разными поднявшимися метеорами, хотя, например, братья Гучковы» [Там же, л. 121].
Младшая дочь Софья только в декабре 1913 г., после окончания Генуэзского университета, переехала в Россию. Она огорчала отца своим отказом от замужества. «Грустно мне за Соню – не только потому, что она оттолкнула – как я должен полагать – свое счастье, но потому, что в ней заметна перемена, которая меня беспокоит. Она утрачивает свою бодрость и жизнерадостность и слишком много задумывается над жизнью» [2, л. 153–154 об.], – пишет он в 1902 г. Он не одобряет ее увлечение теософией [Там же, л. 119, 216 об.].
Более теплые отношения складываются у Герье со средней дочерью Ириной, которую дома звали Ока. В 1898 г. она вышла замуж за рязанского помещика Николая Дмитриевича Матвеева, в браке родился единственный внук Герье Сергей. В 1902 г. Н.Д. Матвеев умирает и воспитанием внука занимается Авдотья Ивановна, так как Ока часто болеет. Игры с внуком радуют Владимира Ивановича: «Он ласковый, живой и любознательный ребенок, и так как только я могу доставить ему некоторые удовольствия – бегать с ним и подбрасывать его, что он называет “летать”, то мы очень сблизились» [Там же, л. 153]. В последние годы жизни Ока жила в доме отца и, в отсутствии вечно занятых Елены и Софьи, Владимир Иванович больше общается с нею. Он пишет, что часто остается с ней вдвоем: «И я стал очень ценить ее характер и душевные качества» [Там же, л. 138]. Они вдвоем читают послания апостола Павла и беседуют о них [Там же, л. 121 об.]. Однако Ока постоянно болеет. О глубокой связи отца и дочери свидетельствуют трагические события 1919 г. 7 июля 1919 г. Ирина умерла, и ровно через 40 дней, 17 августа скончался В.И. Герье.
Таким образом, несмотря на то, что после смерти жены Владимир Иванович жил в окружении дочерей, необходимость в доверительном общении с Александрой Алексеевной только усилилась. В письмах к А.А. Чичериной содержатся и уникальные сведения о фактах биографии Герье. Это описание его занятий в Риме и в Париже в 1865 г. [Там же, л. 1–3 а], о путешествиях по Рейну и Швейцарии [Там же., л. 192–193]. Он рассказывает Александре о своей вступительной лекции в Московском университете, состоявшейся 2 октября 1865 г., на которой присутствовал ее брат П.А. Капнист [2, л. 231]. С Павлом Алексеевичем связано еще одно письмо от 21 февраля 1895 г. В.И. Герье отвечает на обвинения Александры в том, что он, якобы, выступил против П.А. Капниста (в то время попечителя Московского учебного округа). В ходе студенческих волнений в декабре 1894 г. Герье стал инициатором петиции московских профессоров против чрезмерных репрессий властей по отношении к студентам. В письме к А.А. Чичериной он пишет: «Я очень неохотно взял тогда на себя председательство в собрании профессоров <…>. Но в виду моего старшинства я не мог от этого отказаться, не давая дурного примера и не подрывая веры в профессоров и студентов, которым она так необходима. Я при этом принял меры, чтобы профессорское заявление не имело характера демонстрации против попечителя, и с этой целью виделся с Павлом Алексеевичем, говорил с ним и был готов сделаться посредником» [Там же, л. 31об.–32].
В письме от 3 марта 1904 г. он сообщает о намерении идти добровольцем на русско-японскую войну или в Красный Крест [3, л. 38–38 об.]. Еще одно письмо от 30 августа 1904 г. рассказывает о нелегкой участи В.И. Герье на посту директора Высших женских курсов: «Пришлось разобрать 1063 прошения, выдерживать натиск плачущих дев и недовольство родителей, а с 1 сентября соберутся слушательницы старших курсов с разными требованиями и претензиями. Явятся и недовольные преподаватели: тому нужно расширение его кабинета, другому – приглашение ассистента: все думают только о себе, а мне приходится одному против всех отстаивать общий интерес. Притом самая организация и разграничение полномочий у нас не выработаны, что увеличивает недоразумения» [2, л. 151–151 об.].
Письма 1905 г. позволяют понять причины, по которым В.И. Герье, выехав за границу на лето, не вернулся к открытию занятий на ВЖК. Некоторые исследователи упрекали Герье в том, что он просто «бежал от революции». Восстановим хронологию событий по письмам. 29 мая 1905 г. Герье с Еленой едет в Германию, где проходят лечение его супруга, Ирина и внук Сергей [2, л. 100]. 20 июня 1905 г. он пишет Александре Алексеевне: «Я заболел в Варшаве и из вагона в Берлине попал в санаторий, где провел все это время. <…> Лечивший меня врач настаивает, чтобы я не возвращался в Россию и отдыхал бы год за границей». У Герье в это время частые «сердечные припадки, боль в левом боку» [Там же, л. 249]. 28 августа 1905 г. он сообщает: «Моя судьба решена – берлинским профессором и моей женой – меня не пускают в Москву <…>. Таким образом, я – на этот раз против желания – исполню Ваше желание и оставлю свою “несносную” деятельность на курсах» [Там же, л. 179 об.]. Герье присылает прошение об отпуске. Но 6 октября 1905 г. совет Высших женских курсов, без всякого согласования с их основателем, избирает директором В.И. Вернадского, а после его отказа – С.А. Чаплыгина. Герье с горечью пишет в воспоминаниях: «Так приглашенные лично мною профессора лишили меня всякой связи с основанными мною курсами» [9, с. 242]. В 1916 г. он с сожалением вспоминает о последних экзаменах, которые принимал на Высших женских курсах в мае 1905 г.: «Жаль, когда привычная деятельность сокращается» [2, л. 63].
В письмах к А.А. Чичериной Владимир Иванович дает характеристики целому ряду политических деятелей, формирует свое отношение к революции, к работе Государственной Думы и Государственного совета. В мае 1905 г. он восклицает: «Но отчего у нас древо познания порождает такие скороспелые и кислые плоды?» [Там же, л. 78–78 об.]. Сравнивая Великую французскую революцию с событиями в России 1905–1907 гг., он сетует: «Сколько общих иллюзий, сколько дикости и преступлений снизу. Особенно поражает своею аналогиею безумный союз политических фантазеров с политическими негодяями» [Там же, л. 150]. Герье не согласен с «мистическим отношением» к террористам у А.А. Чичериной и отмечает: «…Наши террористы гораздо более дики, и Вы их лично не знаете и не можете вообразить, до какой степени фанатизм, соединенный с невежеством, вытравили в них – если оно и было – всякое человеческое чувство» [2, л. 87 об. 88].
Историк негативно оценивает работу I Государственной Думы: «Я всегда опасался, что у нас найдется слишком мало людей для конституционной монархии, не говоря уже о парламентарной, какую желают кадеты. Меня разочаровал также происходящий в Москве съезд Союза 17 октября. Гучков и, в особенности, Стахович наговорили очень много лишнего и неуважительного, не упоминая даже других. Стахович мне и прежде представлялся более актером, чем политиком, но Гучков искренний, честный и дельный человек, а как был бестактен. Боюсь, что Шипов окажется вождем без войска» [Там же, л. 206–206 об.].
22 мая 1911 г., за три месяца до гибели П.А. Столыпина, он рассказывает о негативной реакции членов Госсовета на его появление: «Едва ли эта неприязнь скоро уляжется, и я очень боюсь, что она осенью разразится каким-нибудь неприятным исходом» [3, л. 102]. В.И. Герье позитивно оценивал аграрную реформу Столыпина. По его мнению, «личная предприимчивость и настойчивость крестьян необходимы для улучшения сельского хозяйства» [6, с. 317.]. В этой связи интересны его наблюдения за жизнью подмосковных крестьян: «Беспечность и лень их удивительны. Ни у одной крестьянки нет кур, и яйца приносят из другой деревни. Ни одна не позаботится завести маленький огород, хотя для того, чтобы продавать дачникам овощи и нажить несколько грошей. <…> А между тем при малейшем старании и усердии они могли бы жить отлично и скоро разбогатеть» [2, л. 157 об.].
Став членом Государственного совета по назначению императора, В.И. Герье поначалу вдохновляется. Однако вскоре пишет: «Я очень разочаровался в политической способности моих коллег. Повторилось то, что было в 1906 г.: собралось много хороших людей [Прим. авт.: здесь и далее подчеркнуто – В.Г.], но плохих музыкантов, т.е. политиков. Слишком глубоко укоренилось мнение, что хороший человек должен, прежде всего, быть в оппозиции к правительству, и что всякое отступление от этого правила непростительно» [2, л. 187]. Поездки на сессии его тяготят: «Мрачный, холодный Петроград и молчаливые коридоры Европейской гостиницы» [Там же, л. 158], длинные речи, «половину из которых нельзя было расслышать вследствие плохой акустики», «весьма некстати задуманные и неудачно сформулированные предложения» [Там же, л. 114]. В другом письме: «То, что там говорят, мне очень не нравится. Это чистая демагогия, особенно в Государственном Совете она не уместна» [Там же, л. 27 об.–28].
В письмах много упоминаний о А.Ф. Кони и С.Ю. Витте [3, л. 104, 114–115, 188–189]. Несколько неожиданный комплимент В.И. Герье делает П.Н. Милюкову, с которым не ладил с 1892 г.: «Обратите внимание на речь Милюкова 3 августа в ответ новому министру внутренних дел кн. Щербатову. Я знаю Милюкова почти 40 лет и считаю его во многих отношениях вредным человеком, но на этот раз и в первый раз мне пришлось пожалеть, что не он на месте кн. Щербатова» [2, л. 159].
В.И. Герье был потрясен начавшейся Первой мировой войной, что привело к глубокому разладу в душе ученого [6, с. 337]. Он пишет: «Мне представляются те тысячи полуголодных, прозябших людей, стоящих друг перед другом с злобой и ненавистью в сердце и не имеющих другого выхода из своего бедствия как истребление врагов. Как жалко становится тогда человечество, жалко в обоих смыслах этого слова» [2, л. 228]. В это время он продолжает заниматься делами Московского попечительства, на которое «возложено поручение выдавать казенный «паек» семьям призванных на службу» [Там же, л. 191]. Вскоре к этому добавится забота о беженцах: «Теперь я удручен беженцами. Удручен вдвойне – жалостью к тем, которые так жестоко пострадали и назойливостью тех, которые слишком требовательны. Какая это глубокая рана в жизни России. Не скоро она заживет с ее последствиями» [Там же, л. 18–18 об.]. В 1916 г. в Москве начинаются перебои с подвозом продовольствия и народные волнения. В письме от 15 июня он пишет: «У нас творились в Москве совершенно дикие дела. Дикие со стороны толпы, творившей их, и дикие со стороны властей, их допустивших» [2, л. 117].









