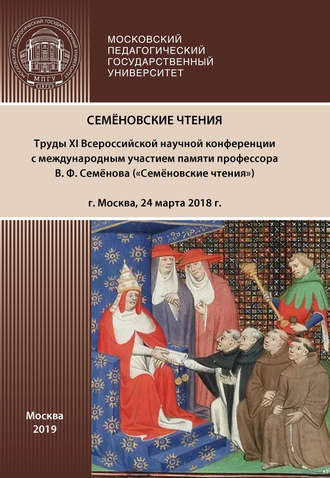 полная версия
полная версияСемёновские чтения
Несколько статей (12, 13, 14, 15) касались порядка несения караульной службы, а статье 16 устанавливалось наказание смертной казнью за попытку чинить самосуд в пределах гарнизона или военного лагеря. Предписывалось обращаться с жалобами непосредственно к офицерам, которые имели полномочия рассматривать жалобы солдат и выносить решения о наказании виновных [3, p. 299].
17-я статья декларировала недопустимость ссор и регулировала споры английских солдат с иностранцами, находившимися на службе английской армии, т.е. как раз голландцами, несколько тысяч которых были в составе армии графа Лестера в качестве союзников. Офицерам предоставлялось право улаживать все такие возможные споры. Нарушителям грозило «тяжкое» наказание, которое имели право назначить офицеры [3, p. 299]. Отсутствие точного определения вида наказания, очевидно, было по причине понимания автора устава того, что споры и стычки с голландцами могли быть как незначительными, ограниченными лишь словесной перепалкой, а могли быть и с более серьезными последствиями (дуэль, драка – В.М.).
Следующая статья (18) перекликалась со статьей 12 и запрещала под угрозой смертной казни солдатам и офицерам самовольно оставлять объект охраны. В статье 19 содержался запрет офицерам под угрозой утраты жалованья устраивать приемы и развлечения солдатам, находящимся в подчинении других офицеров без согласия на это их непосредственных командиров[3, p. 299]. Все это можно рассматривать также в контексте стремления укрепления воинской дисциплины, что было важно как в плане боеспособности английских солдат, так и как пример для союзников-голландцев.
Очень показательна 20-я статья. Там содержался запрет на то, чтобы один и тот же человек был бы записан сразу в нескольких воинских командах и участвовал бы сразу в нескольких военных смотрах или же передавал бы свое оружие и амуницию другому человеку для участия в военном смотре. За подобное нарушение предусматривалось месячное тюремное заключение и изгнание из армии [3, p. 299–300]. Очевидно, эта статья появилась как результат подобной практики во время военных смотров ополчений графств в самой Англии при Тюдорах и первых Стюартах [1, p. 19, 20, 23 etc., 4; 5]. В условиях боевых действий на территории чужого государства такое вряд ли было бы возможным. Последующие две статьи (21 и 22), продолжая тему «оружие» и «амуниция», запрещали солдатам захватывать чужое оружие, а за утрату своего оружия и амуниции предусматривали наказание в виде штрафа в размере двойной стоимости утраченного. Исключение допускалось лишь в том случае, если утеря оружия или амуниции произошла во время несения служб, т.е. во время боевых действий. Под угрозой разжалования запрещались попытки военнослужащих закладывать или передавать другому лицу свое оружие и амуницию, равно как и содержать их в плохом состоянии [3, p. 300]. 23-я статья под угрозой тюремного заключения запрещала «обманным путем» добиваться получения своего жалованья. 24-я статья, на наш взгляд, была особо важной для английской армии в Нидерландах. Она категорически запрещала солдатам заниматься мародерством в местах пребывания войск и устанавливала смертную казнь нарушителям [3, p. 300].
Последующие три статьи (25–27) касались продовольственного обеспечения войск и, по сути, регулировали экономические отношения английской армии с нидерландскими поставщиками продовольствия. В частности, под угрозой смертной казни английским военнослужащим запрещалось скупать продовольствие, привезенное поставщиками в гарнизон или военный лагерь. Такое же наказание грозило за попытку ограбления продовольственных армейских складов. Солдатам, посланным для сбора продовольствия, под угрозой тюремного заключения запрещалось отклоняться от поставленной задачи их командованием [3, p. 300].
Последующая 28-я статья запрещала под угрозой смертной казни причинять вред или убивать лиц из числа союзников англичан, т.е. опять-таки голландцев [3, p. 300].
Ряд статей устава касались некоторых моментов внутренней службы английских военных.
Две статьи, а именно, 31и 32 регламентировала взаимоотношение англичан и нидерландского населения и предусматривала наказание тюремным заключением за проведение ночи солдатами вне казармы или места своего расквартирования, а также запрещала поджигать недвижимые постройки местного населения без распоряжения командования [3, p. 301].
Очевидно в целях недопущения вражеской агентуры в расположение войск статья 34 запрещала под угрозой тюремного заключения и лишения жалованья устраивать приют посторонним лицам из числа иностранцев и англичан в расположении войск без уведомления об этом командования [3, p. 301].
Последующие четыре статьи (37–40) касались офицеров. Возможно, в целях не допущения пленения или измены им запрещалось под угрозой наказания смертной казнью без воинского сопровождения направляться к каким-либо иностранцам. Офицерам предписывалось ставить в известность высшее командование об отправки куда-либо ими своих солдат, т.е. за пределы лагеря/гарнизона, где они могли бы контактировать с местным населением. За нарушение этого правила им грозило наказание в виде лишения своей должности. Офицеры обязывались тщательно контролировать действия своих подчиненных. Они имели право отправлять своих солдат на гауптвахту по возвращению подразделения к месту своей дислокации, но не имели права их убивать без разрешения высшего командования. За нарушения этих правил им грозило наказание в виде разоружения и изгнания из армии [3, p. 301– 302 ].
Статья 41 требовала от солдат беспрекословного подчинения, как своим непосредственным командирам, так и другим офицерам английской армии под угрозой тюремного заключения и лишения месячного жалованья. 42-я статья под угрозой наказания смертной казнью требовала от солдат незамедлительно оказывать помощь своему соотечественнику [3, p. 302]. Однако в отношении оказания помощи своим союзникам-голландцам ничего не говорилось.
Статьи 44 и 45 касались соблюдения солдатами правил гигиены в местах их дислокации. Так, например, не разрешалось забивать животных, предназначенных для использования на работах в гарнизоне или военном лагере, не загрязнять водоемы и т. п. [1, p. 302]. Очевидно граф Лестер хорошо понимал взаимосвязь соблюдения гигиены и боеспособности армии.
48-я статья запрещала солдатам во время боевого марша шуметь, кричать, ловить зайцев и т. п. под угрозой тюремного заключения [3, p. 302]. Видимо, этот запрет устанавливался не только в целях сохранения дисциплины, но и опять-таки, с целью не навредить имиджу английских военнослужащих в глазах нидерландцев.
49-я статья касалась собственно ведения боевых действий. Она требовала от солдат и офицеров защищать боевые позиции от противника под угрозой смертной казни. Однако в ней не содержалось конкретных указаний на то, в какой мере, как долго и т. п. они должны оборонять свои боевые позиции, и кто мог дать команду к отступлению, а также каким образом в такой обстановке взаимодействовать с союзниками-голландцами, если последние, например, побегут с поля боя и т.п. [3, p. 302].
Статья 54 требовала от солдат входить в крепость или в военный лагерь исключительно через ворота, т.е. публично, открыто. Причем нарушение этого правила наказывалось смертной казнью [3, p. 303]. Столь серьезное наказание этого, казалось бы, незначительного нарушения, очевидно, было установлено в целях не допущения в пределы гарнизона или военного лагеря вражеских агентов, которые могли бы воспользоваться неофициальными путями проникновения в расположение английских войск.
Понимая, что на практике английские солдаты могут совершать на территории Нидерландов различные непредвиденные поступки и нарушения, заключительная 55-я статья гласила, что офицеры вправе наказывать солдат за все иные нарушения и проступки, которые не отмечены в вышеизложенных статьях устава [3, p. 303]. Таким образом, они получали широкие права на вынесение вердикта по возможным проступкам своих подчиненных.
Итак, граф Лестер желал, чтобы образ английского военного в Нидерландах выглядел бы в глазах местного населения достойно. Английский военный должен быть не только дисциплинированным в военном отношении, но и благочестивым христианином, не допускающим мародерства и насилия в отношении мирного населения, честного в экономических отношениях с местными предпринимателями и т.п. На фоне действий испанских солдат, занимавшихся мародерством, это было бы только на пользу графу Лестеру в качестве генерал-губернатора на территории иностранного государства. Однако большая часть статей устава естественно были направлены на установления правил внутренней службы и правил ведения боя английских солдат и офицеров, что также было крайне важно в условиях военных действий с испанцами на территории Нидерландов. В этом отношении устав носил общий характер. В нём регламентировались лишь самые общие правила и нормы поведения военнослужащих на территории чужого государства, начиная от требований соблюдения христианских норм (запрет на богохульство и т.д.) и включая правила несения караульной службы. В пределах этих норм и правил в нём также лишь в общих чертах регламентировались «дисциплинарные» вопросы взаимоотношений между солдатами, между солдатами и офицерами, между английскими военнослужащими и местным мирным населением. Необходимость соблюдения добрых отношений с мирными нидерландскими жителями и голландскими союзниками было, безусловно, особенно важно для Лестера. В уставе не предусматривалось регулирование порядка расквартирования войск в домах нидерландцев. Видимо предполагалось размещать войска только в крепостях или полевых лагерях, дабы избегать всяческих лишних контактов и возможных стычек англичан с местным населением, которое итак страдало от мародерства и насилия испанских солдат.
Данный устав был одним из первых опытов по разработке модели пребывания английских войск на территории чужого государства в качестве союзников. Насколько удалось графу Лестеру добиться на практике такой модели поведения английских военнослужащих на территории Нидерландов – предмет особого исследования.
Список использованных источников и литературы1. Boyton L. The Elizabeth Militia. 1558–1638. Toronto, 1967.
2. Calendar of State Papers. Domestic Series. Addenda (1580–1625) / Ed. by M.A. Everett Green London, 1872.
3. Cruickshank Ch. Elizabeth's Army. 2-nd Ed. Oxford, 1966.
4. Митрофанов В.П. Из истории военных ополчений графств Англии начала XVII в.(по материалам мирового судьи Н. Бекона) // Известия ПГПУ имени В. Г. Белинского. Гуманитарные науки. № 23 / гл. ред. Коротов В.И. Пенза: ПГУ, 2011. С. 523–527.
5. Митрофанов В.П. Некоторые аспекты непроизводственной сферы жизни английских крестьян (вторая половина XVI – первая половина XVII вв.) // История Британии: современные исследования. Электронный научно-образовательный журнал «История». М., 2014. Выпуск 10 (33) [Электронный ресурс]. URL: https://history.jes.su/s207987840000896-4-1 (дата обращения 06.03.2018).
6. Чистозвонов А.Н. Республика соединенных провинций.//История Европы. Т.3. От средневековья к новому времени (конец XV – первая половина XVII в.). М., 1993. С.187–196.
Действия испанских дипломатов в Англии в свете кругосветной экспедиции Дрейка
Михеев Д.В.кандидат исторических наук, доцент Псковский государственный университетАннотация : Кругосветная экспедиция Фрэнсиса Дрейка стала серьезным испытанием для англо-испанских отношений. Дрейк вторгся в сферу испанских интересов в Новом Свете, захватив собственность короля Филиппа II и его подданных и продемонстрировав всему миру слабость Испании в колониях. Материальный ущерб был значителен, но более серьезный удар был нанесен престижу страны. Это объясняет интерес, проявленный к действиям Дрейка испанскими дипломатами и агентами на туманном Альбионе. Попытки выяснить истинные намерения корсара, масштабы поддержки предприятия при английском дворе, привлечь к ответственности организаторов и участников экспедиции, определить объем похищенного и попытаться вернуть хотя бы часть этих средств – вот далеко не полный список задач, стоявших перед представителями испанской короны в Англии.
Ключевые слова : англо-испанские отношения, кругосветная экспедиция, Фрэнсис Дрейк, Елизавета I, Филипп II, Бернардино де Мендоса.
Annotation: The Drake‘s Circumnavigation has become a serious test for Anglo-Spanish relations. Drake invaded the sphere of Spanish interests in the New World, seizing the property of King Philip II and his subjects and demonstrating to the whole world the weakness of Spain in the colonies. Material damage was significant, but a more serious blow was struck at the prestige of the country. This explains the interest shown to Drake's actions by Spanish diplomats and agents on the Foggy Albion. Attempts to find out the true intentions of the corsair, the scale of the support of the enterprise in the English court, to punish the organizers and participants of the expedition, to determine the amount of the stolen and to try to return at least part of these – this is not the complete list of tasks facing the representatives of the Spanish crown in England.
Key words : Anglo-Spanish relations, Circumnavigation, Francis Drake, Elizabeth I, Philip II, Bernardino de Mendoza.
Англо-испанские отношения в первые годы правления Елизаветы Тюдор пережили несколько кризисов, завершившихся на рубеже 1560– 1570-х гг. полным разрывом дипломатических отношений и началом необъявленной каперской войны, которую вели подданные английской королевы против католиков в Испании, Нидерландах и Франции. К 1573 г. ситуация наладилась, но о старом англо-испанском союзе уже не могло быть речи. Примечателен и тот факт, что, несмотря на постепенное потепление отношений, на протяжении без малого десяти лет испанский король не направлял к Елизавете I своего официального посла. После высылки из страны в 1571 г. Герау де Спеса, окончательно испортившего своими действиями англо-испанские отношения, интересы Филиппа II при английском дворе представлял испанский торговец Антонио де Гуарас.
Отсутствие постоянного посланника в Англии в столь сложной ситуации не только не позволяло в полной мере отстаивать испанские интересы на туманном Альбионе, но и мешало оперативно и качественно отслеживать изменения ситуации в регионе, грозившие негативно сказаться на англо-испанских отношениях в дальнейшем. Помимо официальных дипломатических функций испанский посол занимался сбором информации и фактически служил связующим звеном между Мадридом и разветвленной шпионской сетью, созданной испанцами. Высокий статус официального посланника позволял ему поддерживать контакты и получать сведения от виднейших людей в королевстве, а в случае необходимости рассчитывать на аудиенцию у самой королевы. Именно на послов возлагалась обязанность координировать деятельность агентов, собиравших информацию, и максимально точно информировать испанского короля обо всех действиях королевы и ее подданных, касавшихся интересов испанской короны. На наш взгляд, именно факт отсутствия в стране подготовленного к своей миссии официального посланника стал одной из причин того, что в Мадриде так и не смогли разгадать истинных целей экспедиции, подготовленной под руководством известного елизаветинского корсара Фрэнсиса Дрейка в 1577 г.
Испанские агенты в Англии терялись в догадках о возможных целях готовившегося предприятия. Официально корабли снаряжали для экспедиции к Александрии. Накануне отплытия Дрейка из Англии Антонио де Гуарас мог довольствоваться только слухами, многие из которых, по всей видимости, распускались специально, чтобы сбить испанцев со следа. Фактически в первый раз приготовления Дрейка попали в поле зрения испанских агентов осенью 1577 г. 20 сентября 1577 г. де Гуарас писал в Испанию, что «пират Дрейк» собирается отплыть в Шотландию, чтобы выкрасть молодого короля Якова [1, p. 544–545]. Предположения о том, что экспедиция может готовиться для путешествия к Индиям не подтверждались английскими информаторами испанского торговца. Но прежде чем информацию удалось проверить, де Гуарас был арестован по обвинению в подготовке заговора с целью освободить Марию Стюарт и выслан из страны в октябре 1577 г. Таким образом, к ноябрю 1577 г., когда и состоялось отплытие кораблей Дрейка, испанская шпионская сеть в Англии оказалась обезглавлена и дезорганизована.
Новый испанский посол Бернардино де Мендоса прибыл в Англию только в начале марта 1578 г. Человек знатного происхождения, с неплохим образованием, не лишенный дипломатического и литературного таланта [4, c. 202–204], он имел неплохие связи при английском дворе и был лично знаком с графом Лейстером. Появившись в Лондоне, Мендоса немедленно приступил к восстановлению сети агентов и информаторов по всей стране. Однако ему потребовалось время, чтобы собрать необходимую информацию и войти в курс дел. Экспедиция Дрейка достаточно быстро привлекла его внимание. Уже 31 марта в своем очередном донесении королю посол сообщал, что не сомневается в грабительских намерениях известного пирата: «За шесть недель до начала Рождества капитан Дрейк с четырьмя или пятью кораблями отплыл отсюда к Номбре-де-Диос и землям симаронов, в экспедицию, подобную той, что совершил вместе с Хокинсом.... Эти корабли были подготовлены под предлогом путешествия к Александрии» [1, p. 569]. Мендосе не удалось сразу разгадать истинной цели Дрейка, но его основные намерения он осознал сразу. Таким образом, спустя почти пять месяцев после начала предприятия, испанцы могли только догадываться о намерениях англичан. Шанс предотвратить отправку кораблей был упущен, как и возможность заблаговременно сообщить властям в колониях о возможной угрозе.
Впрочем, на долгие месяцы после мартовского сообщения Мендосы королю тема экспедиции Дрейка исчезает в переписке испанского посланника. Сведения не поступали, в том числе и потому, что англичане пытались действовать скрытно, не привлекая к себе внимания вплоть до момента преодоления Магелланова пролива. Интерес к действиям английских корсаров возродился после возвращения 2 июня 1579 г. одного из кораблей экспедиции под командованием капитана Уинтера. Королеве и членам Тайного Совета незамедлительно был отправлен подробный отчет, а уже через несколько дней (10 июня 1579 г.) в своем очередном донесении Мендоса сообщал Филиппу II подробности о предприятии и попытке англичан преодолеть Магелланов пролив. Как утверждал посол, ему стало известно, что далеко не все спутники Дрейка согласились с действиями капитана, из-за чего возник заговор. В результате Дрейк, определив лидера заговорщиков, устроил над ним суд и казнил (речь идет о казни Томаса Даути 2 июля 1578 г. – Д.М.). Мендоса добавляет к рассказу детали, которые не вполне соответствовали действительности. Так, в частности, он говорит, что сам Дрейк привел приговор в исполнение, так как никто не желал этого делать [1, p. 592].
Все действия английских властей в связи с возвращением капитана Уинтера теперь отслеживались Мендосой и его агентами. 20 июня 1579 г. он сообщал Филиппу II, что королева лично встречалась с Уинтером и распорядилась отсрочить расследование по делу Даути до возвращения Дрейка [1, p. 602].
В этом же письме Мендоса сообщал, что, по словам Уинтера, Дрейк назначил местом встречи для кораблей экспедиции после прохода через Магелланов пролив один из участков побережья Южной Америки в районе 47þ южной широты [1, p. 602]. Однако использовать эту информацию, чтобы перехватить Дрейка, испанцы уж не смогли.
Сообщал Мендоса и о действиях самого Уинтера, 10 месяцев назад отделившегося от Дрейка. Как заявил сам Уинтер, его команда захватила португальский корабль у берегов Бразилии, выбросив весь экипаж за борт [1, p. 602]. Именно за эти действия будут в дальнейшем судить капитана Уинтера, но так как все товары были возвращены владельцам, он избежит наказания.
Вскоре стали ясны истинные намерения Дрейка на тихоокеанском побережье. Филипп был раздосадован, но не в такой степени, как можно было бы ожидать. Король отмечал в своем письме Мендосе от 10 августа 1579 г., что информация, поступавшая в последнее время от посла, совпадает с донесениями из Нового Света. Король поручал и далее подробнейшим образом информировать его о всем, что связано с действиями Дрейка [1, p. 683]. В особенности важно было отследить, как много добычи захватил корсар, если ему удастся беспрепятственно вернуться в Англию. Однако главной проблемой, стоявшей перед Филиппом II в тот момент, было непонимание, являются ли действия Дрейка открытой декларацией войны со стороны Англии, либо это спонсированная отдельными лицами частная авантюра. Важно было понять, готовятся ли рейды к испанским колониям, а тем более к побережью самой Испании и есть ли потребность принимать необходимые для обороны его владений дополнительные меры.
К сентябрю 1579 г. начали поступать примерные сведения о добыче Дрейка. Она составила не менее 600000 дукатов (чуть менее 70000 фунтов – Д.М.), королева и организаторы экспедиции могли быть довольны. Испанский посол сообщал королю, что «авантюристы, предоставившие деньги и корабли для путешествия, вне себя от радости… среди них есть некоторые члены Совета» [1, p. 694–695]. Мендоса был вынужден сообщить, что в Англии активно обсуждают возможность повторить подобную экспедицию: «Люди здесь не говорят ни о чем другом, но только о том, чтобы отправляться для грабежа подобным же путем» [1, p. 694]. Испанский посол обещал приложить все усилия, чтобы вернуть все похищенное английскими корсарами. Он надеялся, что его обращение к королеве поможет наказать преступников.
Новости о действиях английских корсаров в Новом Свете вызывали разные чувства в Англии. Далеко не все были довольны успехами Дрейка [3, p. 209]. Английские торговцы, посещавшие Испанию, были очень обеспокоены. В очередном донесении королю Мендоса сообщал, что «после появления новостей о грабежах Дрейка, эти торговцы направились в Совет и заявили, что они опасаются, что его Величество в ответ может захватить собственность англичан в Испании… В Совете отвечали, что Дрейк направился в путешествие ради открытий, и, если он совершил грабежи, это их не интересует. Они считают, что его Величество не конфискует английскую собственность…» [1, p. 697]. Таким образом, Тайный Совет официально рассматривал действия Дрейка как частное предприятие. В этом же пытались уверить испанского посла английские торговцы.
Впрочем, послу уже было известно, что в предприятии замешаны отдельные члены Тайного Совета. Они направили секретное распоряжение в Плимут всячески помогать Дрейку, когда он вернется. 29 сентября 1579 г. Мендоса писал, что прибытия Дрейка ждут в январе [1, p. 701]. Так как причастность членов Тайного Совета к предприятию становилась все более ясной, они начали в открытую направлять агентов в порты, чтобы предупредить власти как следует встретить Дрейка [1, p. 709]. Но когда Дрейк не появился, все были обеспокоены и даже собирались направить корабли на его поиски [2, p. 8]. Впрочем, корабли, готовившиеся в начале 1580 г. к отплытию из Англии, вероятнее всего снаряжались к побережью Бразилии [3, p. 210].
Кроме того, Мендоса развернул активную работу по возвращению всех товаров, захваченных английскими корсарами у подданных Филиппа II. Может показаться удивительным, но сведений о плавании Дрека в Англию поступало не так уж и много, и не в последнюю очередь о его «успехах» узнавали от испанского посла, направлявшего жалобы ко двору в связи с грабительскими действиями англичанина в Новом Свете. Договоренность об обоюдном обмене украденных товаров была оформлена в Бристоле в 1579 г., однако она никогда серьезно не исполнялась английскими властями [3, p. 209]. По этой причине испанский посол предлагал надавить на англичан. По его словам, англичане опасались ответных действий испанского правительства. Мендоса рекомендовал Филиппу II: «Если они не возместят ущерб и не накажут пиратов, ваше Величество может выдать каперские патенты для владельцев товаров, чтобы возместить их потери, захватывая английскую собственность, где они смогут ее найти. Это то, чего они боятся больше всего…» [2, p. 7–8]. Однако вступать в конфликт с Елизаветой из-за кругосветной экспедиции Дрейка Филипп II не был готов. Продолжавшиеся военные действия в Нидерландах, вопрос о португальском престоле, где испанский король вынужден был соперничать с доном Антониу, в признании которого были заинтересованы в Англии и Франции, были более важны [3, p. 209–210]. Возвращение награбленных Дрейком ценностей возлагалось на Мендосу и частных лиц, готовых бороться за свои права при дворе английской королевы. Впрочем, часть из сокровищ, захваченных Дрейком, были плохо зарегистрированы испанцами, либо вообще являлись контрабандой. По этой причине четко определить объем добычи корсара было достаточно сложно, и испанцы не могли рассчитывать на полное возмещение потерь [5, c. 106].









