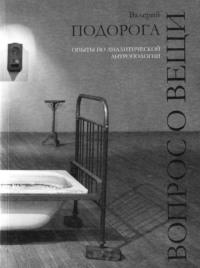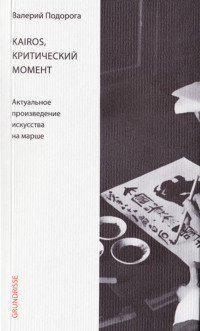Полная версия
Nature Morte. Строй произведения и литература Н. Гоголя
«Как гром, рассыпался дикий смех по горам и зазвучал в сердце колдуна, потрясши все, что было внутри его. Ему чудилось, что будто кто-то сильный влез в него и ходил внутри его и бил молотом по сердцу, по жилам… так страшно отдался в нем этот смех!»[13].
Смех, будто обрушивающий мир в ничто, из которого его не вернуть в первоначальной целостности. Писатель – колдун, добрый и злой, он владеет миром через смех и страх (испуг), ловко манипулируя их истинными причинами. Даже маски колдуна недостаточно, чтобы отразить весь ужас, который сопровождает гоголевский смех. Этот смех поистине первозданный, скорее подземный, сотрясающий земное смех Тартара, чем олимпийский. Гоголь мастерски оперирует различными смеховыми приемами, но они лишь повторяют друг друга и остаются безразличными к иным модальностям смеховой субстанции (например, к иронии или сарказму)[14]. Очередной приступ смеха сопровождается нарастающим чувством страха, смех едва прикрывает собой испуг, стыд перед возможным разоблачением, словно смех обнаруживает греховные помыслы, стоит даже перекреститься и сказать: «Чур меня! Сгинь, нечистая сила!». Грех уже в раскрытом смеющемся рте, ибо раскрытый рот (как учили древние) – явление сил хаоса[15].
Вероятно, именно этот смех так напугал А. Белого. В письме к Мейерхольду, в котором он всячески поддерживает сценическую интерпретацию «Ревизора» (1926), Белый дает наиболее полную оценку гоголевского смеха: «Где это у Гоголя тот “здоровый веселый смех”? Разве что в первых рассказах из “Вечеров”, где этот веселый смех фигурирует откровенно, наряду с откровенно фигурирующею чертовщиною; уже к концу первого периода чертовщина, так сказать, втягивается в натурализм, поглощаясь им, но ценой превращения “натурального” смеха в такой “рев ужаса” перед увиденной дичью тогдашней России, от которого не поздоровится; сам Гоголь в одном месте, говоря о смехе, выражается: “Загрохотал так, как если бы два поставленных друг против друга быка заревели разом”. И этот рев, грохот хохота, в иных местах громок, как судная труба; так что не знаю, что ужаснее: “Вий” и отплясывающий тут же гопака козак или какой-нибудь Аммос Федорович, без всякого Вия и прочих чертей. Так что все попытки Ваши к остранению “Ревизора” в направлении к реву хохота-грохота лишь выявление самого Гоголя. И это дано у Вас постановкою великолепно; плакат с объявлением о приезде чиновника, дьявольская скачка по залу вплоть до горячечной рубашки и прочих мелочей – все повышает конец “Ревизора” до грома “апокалиптической трубы”. Этого и хотел Гоголь; Вы лишь вынимаете Гоголя из ваты, в которую он должен был обвернуть громоподобное действие, чтобы в николаевской России вообще было возможно гоголевское слово; Гоголь прибеднивался простачком, чтобы горький отравленный режущий смех обернулся бы в видимость только “смеха”. Вся эта линия – линия пресуществления смеха и только смеха в пророческое слово Гоголя, встряхивающее, убивающее, – вся эта линия безукоризненна в Вашем “Ревизоре”»[16]. Вот этот особый смех, смех гибельный и разрушительный, мир, входящий в последний приступ распада, «последний смех» резонирует с разнообразными оттенками смеховых ситуаций, которые лишь множат один и тот же эффект абсурда.
* * *А между смехом и страхом – что?.. То, что их соединяет и что делает их неразличимыми в гоголевском нарративе, это скука. Все собранные Гоголем анекдоты, и ставшие ныне литературой (отдельными произведениями), все они – эмблемы скуки. Скучное – свидетельство пассивного бытия (субъект, буквально тонет во вневременном разрыве, в который заброшен). Как только наступает скука, время становится пустым, ничто уже не может случиться. Развеять скуку – это вернуть времени как экзистенциальной длительности свойственную ей активность, вновь заполнить событиями. Когда рассказывается анекдот? Да тогда, когда исчерпано содержание разговора, общение перестало удовлетворять, «все скучают». Вот тут и появляется анекдот, он наполняет бессодержательность разговора мнимым содержанием и остротой, создает ложный эффект интереса, «вовлеченности» не в то, о чем говорят участники разговора, а в то, что сразу может стать понятным, и вместе с тем нисколько их не затронет, не потребует напряжения чувств и мысли, напротив, позволит расслабиться, прибавит уверенности, развлечет, рассмешит. Анекдот – это разновидность сплетни, обретшей литературную форму, его моральная форма безлична, это происшествие, отрицающее смысл событий, о которых рассказывается[17]. Можно «умереть от скуки», когда не о чем писать, когда нечего делать, и надобно хоть какой-нибудь анекдот, чтоб включить машину письма, заставить время вновь наполниться содержанием. Смерть как средоточие скучного, – абсолютной скуки. Отсюда просьбы и поручения Гоголя к своим корреспондентам рассказывать о том, что происходит – анекдоты, «случаи», поговорки, происшествия – все может пойти в дело, а уж он-то все сделает для того, чтоб его читателя/слушателя разбил смеховой паралич. Чтобы не скучать, чтобы было интересно. «Да чтобы смеху, смеху, особенно при конце. Да и везде недурно нашпиговать им листки. И главное, никак не колоть в бровь, а прямо в глаз»[18]. Должно быть жутко смешно, должна наступить жуть от смеха, мы должны смеяться до жути, перейти предел, когда уже не до смеха. Страх и смех балансируют на краях пропасти, куда свалилось время, охваченное скукой. Вот почему комика, и – шире – комическое – след пустого времени, оно заполняется невероятными происшествиями, имитирует ход реального времени событий, но ничто не изменяется, все остается неподвижным. Не удается скрыть страх перед ничто, который таится в скуке, страх перед застывшим временем жизни…
Но вот неожиданно точный комментарий самого Гоголя к первой части «Мертвых душ»:
«Идея города. Возникшая до высокой степени пустота. Пустословие, сплетни, перешедшие пределы. Как все это возникло из безделья и приняло выражение, смешное в высшей степени. Как люди неглупые доходят до делания совершенных глупостей. /…/ Как пустота и бессильная праздность жизни сменяются мутною, ничего не говорящею смертью. Как это страшное событие совершается бессмысленно. Не трогаются. Смерть поражает нетрогающийся мир. И еще сильнее между тем должна представиться читателю мертвая бесчувственность жизни.
Проходит страшная мгла жизни, и еще глубокая сокрыта в том тайна. Не ужасное ли это явление – жизнь без подпоры прочной? не страшно ли великое она явленье? Так слепа… жизнь при бальном сиянии, при фраках, при сплетнях и визитных билетах. Никто не признает… /…/
Весь город со всем вихрем сплетен: прообразование бездельности жизни всего человечества в массе. Рожден бал и все соединения. Сторона славная и бальная общества. /…/
Как низвести всемир[ные] безделья во всех родах до сходства с городским бездельем? и как городское безделье возвести до прообразования безделья мира?»[19].
Вихрь бала, «все летит и улетучивается в быстром галопаде», также вдруг и неизвестно откуда – вихрь сплетней, что окутывают город, оба эти вихря точно выражают подлинный смысл всеобщего безделья как особого рода умения получать удовольствие из скуки, из ничегонеделания. Но за поверхностью этих ложных явлений жизни то неподвижное, пустое, что оказывается прообразованием[20] смерти, победившей жизнь и все живое, – царство мировой скуки.
Игра без правил. Отмена целого пласта реальности, который в повествовании является обязательной рамкой для временных знаков события[21]. Однако событий нет, только происшествия. Очередное происшествие языка… и взрыв смеха, какой иногда испытываешь в качестве свидетеля трагикомичных уличных сценок: сначала пугаешься, а потом смеешься, если все обошлось и никто не пострадал, а ты сам отделался легким испугом. Смех не столько чередуется с испугом, он и есть выражение испуга, – предвестника будущего ужаса, освободиться от которого можно опять-таки лишь смеясь. Смех, вытесняя смысл, становится свидетельством происшествия… Принцип: то, что не должно случиться, то обязательно случится, – разве это не повод для смеха? Происшествие – не событие, а общее имя для всего невозможного и чудного. В происшествии объединены свойства случая и чуда, например, «чудесное происшествие (или приключение)». Происшествие сполна проявляет стихию исторического, внезапно вторгается в монотонную, «спящую» повседневность природного бытия, оживляя скрытые конфликты. Происшествий не ожидают, они со всех сторон и нигде, они столь часты, что отыскать их причину невозможно, их признают, они шокируют, им удивляются. В отличие от события происшествие не имеет внутренней меры времени – длительности – и исчерпывает свое содержание в каждом моменте проявления. «Вот так это и случилось… (и ничего не поделаешь)!» – всякая событийная интерпретация выглядит излишней. Реальность же предстает как случай. Вот почему мы настаиваем: явление гоголевского персонажа – это «несчастный случай», accident. Литература Гоголя – парад происшествий, все в первый и последний раз. Гоголь как сценограф: не рассказывает, а показывает, мимически точно, театрально представимо. Поскольку происшествие случайно, оно не может не удивлять, и если нет иного контакта с реальностью, кроме случая, то и сама реальность предстает как одно происшествие. Если сходные обстоятельства повторяются, то жди обязательно: что-то случится; если же это что-то и происходит, то всегда неожиданно, т. е. потому, что не должно было случиться. Ожидание тревожно, испуг внезапен и благотворен, он хотя бы на время освобождает от тревоги, давая возможность посмеяться над ней. Да ведь и «истории» нет, – для этого понадобилось бы ввести мотивы, установить причинные связи, наделить повествование моральной формой, что потребовало бы критической рефлексии, и, как следствие, заставило бы искать смысл в собственном литературном деле. Гоголь – подлинный творец абсурда[22]. Абсурд – это выход образа за собственные пределы. Но что это за «выход»? Выход за пределы – но это не гипербола, не другой троп, т. е. не просто преувеличение, – допустим, чрезмерное и надуманное, но все-таки совместимое с границами образа, – а полное его разрушение. Переход к восприятию непредставимого, ни с чем не соотносимого, иначе говоря, лишенного всякого смысла, – вот когда, действительно, становится смешно. Смех убивает нас судорогой, «вздрогом», как уточнял А. Белый.
Из всех теорий смеха только теория комического А. Бергсона может послужить основой для выяснения особенностей гоголевских смеховых приемов. Правда, сразу же надо внести некоторые уточнения. Следует различать смех (определенная реакция на смешное), комическое (то, что может вызвать смех) и смеховую ситуацию (то, что вызывает смех). Комическое – наше представление о том, когда и по поводу чего мы смеемся, осталось бы неясным без внезапно возникшей смеховой ситуации. Ведь ситуативность определяет начальные условия смеховой реакции. Необходимо описание места(сцены), оценка продолжительности того, что и как происходит (время), и что из происходящего и какую требует реакцию, насколько спонтанную (интенсивность) и прочее? Ирония, гротеск, карикатура, шарж – все приемы, которые позволяют несмешное делать смешным (все может стать смешным). Гоголь использует иную, чем в сатире или гротеске, миметическую технику; он не над и не внутри, а скорее вне; его персонажи, все эти невероятные куклы-чудовища, не откликаются ни на какое подражательное движение, исходящее от автора, они не отражают, а поглощают миметическое. Но что значит поглощать миметическое? Допустим, что универсальной причиной смеха, по Бергсону, всегда является природная косность, ставшая автоматической[23]. А это значит, что там, где ожидается живое движение, реакция или порыв, мы находим остановку, некий обрыв или каталептический транс (уверенная поступь сомнамбулы в лунную ночь – пример такой косности). Следовательно, мы смеемся над тем, что лишено достаточной гибкости и свободы, достаточной миметической силы, чтобы избежать поглощения косным автоматизмом омертвевшего. Смех усиливается, если все попытки совершить управляемое движение оказываются тщетными. Ведь привидения, монстры, вампиры и вурдалаки, серийные убийцы и молчание ягнят, летающие ведьмы и дети кукурузы – весь этот практически неисчислимый ряд персонажей-двойников – инициирует вселенский «громоподобный» смех, которым объявляется ужас существования.
Истинный смех, или смех, который не принадлежит никому, если угодно, дзенский смех, это смех, рожденный из условий абсурда, и он – единственный выход. Это вовсе не значит, что причиной смеха может оказаться некая особая ситуация (как бы она ни казалось смешной). Конечно, смех, чтобы распространиться и заразить собой, нуждается в завершенности смеховой ситуации (наборе всех необходимых условий), но истинной причиной останется все же та, которая ничем не определяется и ни в чем не может быть выражена, – смеюсь в силу абсурда (нет повода для смеха, но смешно). По природе своей юмор ближе к реакции на абсурд (на нелепости, «чудности» ситуации); он всеобщ, не локален и не субъективен, он – «смех без причины». Юморист – чаще не субъект юмора, а объект, носитель скрытой силы абсурда, ведь ею пронизано повседневное бытие; поэтому заразительно смешным будет то нечеловеческое, что пытается представить себя человеческим[24]. Иногда смех является следствием осознания безысходности, той абсурдной ситуации, в которую ты заброшен…
* * *Разное отношение к Гоголю как комику и миму. Но к двум крайним взглядам я бы отнес, с одной стороны, «наивность» проф. Ермакова, с другой – «прожженность и сарказм» проф. Набокова. Первый пишет: «Гоголь проводит четкую границу между неорганическим (скоморох) и органическим смехом, другими словами, между частичным (“беспутный”) и всеобщим (смеяться сильно над тем, что действительно достойно осмеяния всеобщего)»[25]. Второй же вообще ставит под сомнение смеховое начало у Гоголя: «Когда мне кто-нибудь говорит, что Гоголь юморист, я сразу понимаю, что человек этот не слишком разбирается в литературе»[26]. И далее: «Когда я хочу, чтобы мне приснился настоящий кошмар, я представляю себе Гоголя, строчащего на малороссийском том за томом “Диканьки” и “Миргорода” – о призраках, которые бродят по берегу Днепра, водевильных евреях и лихих казаках»[27]. И это «пишется» после гоголевских гримас Розанова. Ермаков-психоаналитик допускает, что Гоголь-пациент может управлять собственным заболеванием достаточно искусно, и даже «заиграться в болезнь». Вот почему важно не то, что Гоголь говорит о себе, а те причины, которые заставили его так говорить. Сколько бы Гоголь ни пояснял природу собственного смеха, и ни идеализировал ее, понятно, что этот смех не относится к миру с добродушной иронией, но он не является и смехом мщения или уничтожающим смехом. Этот смех рождается из абсурда гоголевских словечек и положений, и поскольку особенности изображения настолько невероятны, нелепы, что скорее пугают, чем действительно смешат. Каждое словечко – «происшествие», а раз так, то говорить о какой-то разумной силе, которая якобы управляет гоголевским смехом, не приходится. Гоголь – чистый комик, он всегда смеялся смехом бессмысленным. И смешил до тех пор, пока смешное не теряло связь с породившей его ситуацией. То, что действие гоголевского смеха продолжается до сих пор, определяется не тем, что сохраняются прежние условия смеховой ситуации (что и сегодня в жизни полным-полно «Хлестаковых» или «Городничих»). Напротив, как раз именно потому, что гоголевский смех безотносителен к ситуации, в которой рожден, и делает его универсальным феноменом, вне времени и места… Лучший читатель Гоголя бьется, ослепший от слез, в смеховых конвульсиях, как будто его насильно щекочут или пытают слабым электрическим разрядом; говорить о других вариантах чтения не приходится.
2. Произведение из хаоса
Я продолжаю работать, то есть набрасывать на бумагу хаос, из которого должно произойти создание «Мертвых душ».
Н. ГогольВ метафизике искусства, развитой немецкими романтиками, противопоставление произведение (Космос) – природа (Хаос) оказывается тонко расчлененным предметом мысли[28]. Древние греки видели в хаосе нечто бесформенное, часто внезапное и катастрофическое проявление природных сил и противопоставляли его Космосу. Хаос – первоначальное состояние всего того, что еще не получило или только что потеряло форму (ср.: «погрузиться в хаос»). Это сама Природа, в своей первозданности. Сначала был хаос, и не было ни неба, ни земли, первоначальное состояние сил природной материи, до-или-постчеловеческое. Хаос – бездна, что «шевелится под ногами»[29]. Романтический гений представляет себе хаос несколько иначе, не как что-то беспорядочное, но как форму форм или абсолютную форму, по определению Шеллинга: «…ибо универсум есть хаос как раз вследствие абсолютности формы, или вследствие того, что каждое особенное и в каждую форму вложены опять-таки все формы и тем самым абсолютная форма»[30]. В созерцании абсолютного и рождается представление о хаосе, т. е. как явление хаос принадлежит области творящего мир созерцания. В таком случае нет бесформенного, противостоящего форме, а есть лишь бесконечность самой формы. Романтическое переживание – это переживание бесконечного, и оно хаоидно по определению, ибо хаос само условие (даже принцип) созерцания вечных форм. Романтическое произведение проникается силами хаоса, они участвуют в его строе, отчасти или временно им поглощаются, но хаос не перестает также противостоять любой форме, участвуя в ее создании; форма же, в свою очередь, испытывая напряжение, которое привносят в нее силы хаоса, продолжает развиваться; все в движении, ничто не покоится, все хаотирует, приобретая форму, тут же ее теряет. Что же это за силы? К ним следует отнести, естественно, с оглядкой на поздних романтиков, литературный «примитив» и мифографию Гоголя следующие пары: силы расширения (высоты, широты, дали, быстроты) и сужения (распада, омертвения, окаменения, сжатия), влечения (радости, восторга) и отталкивания (страха, ужаса, отторжения, неузнавания). Одни силы активные, «творящие», другие реактивные, пассивные. Два образа хаоса: позитивный, когда он переживается как природное сверхизобилие, источник всех энергий и форм жизни, как даль, широта и быстрота охвата всего того, что чувствуется, помышляется или представляется; негативный, когда он – сила, грозящая небывалым опустошением, утратой формы, истощением, погружением во мрак и ужас, и нет больше выбора в объектах чувственных переживаний. Гностический знак падшести природы – хаос – предстает как негативный образ бесконечного. Конечно, негативно переживаемая бесконечность не имеет ничего общего с позитивной, которая открывает для романтического субъекта, воображающего себя бесконечным, горизонт фихтеанского «я». Субъект ничем не ограничен и способен, бесконечно ускоряясь, пробегать грани любого фантастического образа. В каждой точке романтического пространства, в каждом мгновении мы найдем это «я», или то, что романтики назвали «самостью», Selbstheit. Это «я», умноженное в своих «неземных» измерениях, своего рода духовный эквивалент мира.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
По определению М. Мосса. См.: Мосс. М. Очерк о даре – Общество. Обмен. Личность. М.: Восточная литература РАН, 1996. С. 85.
2
Приходится использовать здесь понятия структура, форма, организация, «чистое наблюдение» условно, придавая им более «точный» смысл только в отдельных контекстах.
3
Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М.: Прогресс-Академия, 1992. С. 143.
4
Клодель П. Глаз слушает. Харьков: Фолио, 1995. С. 49.
5
Фехнер Е. Ю. Голландский натюрморт XVII века. М.: Изобразительное искусство, 1981. См. также подборку «голландцев» из Эрмитажа: Голландская живопись в музеях Советского Союза. Л.: Аврора-Ленинград, 1984. С. 273.
6
Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М.: Логос, 1998. C. 212–213.
7
Гоголь Н. В. Сочинения. СПб.: Издательство Ф. Маркса, 1893. C. 274.
8
Вересаев В. Гоголь в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников. М.; Л.: Academia, 1933. C. 156.
9
Анненков П. В. Гоголь в Риме летом 1841 года – Гоголь в воспоминаниях современников. М.: Гослитиздат. 1952. C. 284.
10
Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Т. 5. М.: Художественная литература, 1949. C. 190.
11
Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Т. 5. М.: Художественная литература, 1949. C. 156.
12
Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Том 4. С. 256–257.
13
Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Том 1. («Страшная месть»). С. 174–175. См. также: Ремизов А. Сны и предсонье. («Огонь вещей»). СПб.: Азбука, 2000; а также: Терц А./Андрей Синявский. В тени Гоголя. М.: Аграф, 2001. C. 104–105.
14
Достаточно сравнить гоголевский «физиологический» смех с культурой смеха и комического, развернутой Жан-Полем Рихтером в «Приготовительной школе эстетики», чтобы убедиться в том, насколько романтическая ирония отличается от образцов чистого юмора. Гоголь – чистый юморист, поэтому для него и нет никакой особой позиции, куда бы смех не смог проникнуть, как если бы был возможен наблюдатель, способный все делать смешным, но самому остаться вне действия смеха. Ироническое снижение и игра в превосходство того, кто рассказывает, над тем, кто слушает, Гоголю чуждо, у него нет иронической утонченности. Гоголевский рассказчик не в силах совладать со смеховым происшествием, он так же поставлен в тупик, как и персонаж, которого он изображает, беря «характер» в столь гиперболическом масштабе. Смех поражает и его.
15
Мифема «разинутый рот» обсуждалась в исследованиях М. Бахтина: «Но самым важным в лице для гротеска является рот. Он доминирует. Гротескное лицо сводится, в сущности, к разинутому рту, – все остальное только обрамление для этого рта, для этой зияющей и поглощающей телесной бездны» (Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1965. C. 343).
16
А. Белый – В. Э. Мейерхольду. Москва, 25 дек. 26 года. – Мейерхольд В. Э. Переписка. 1896–1939. М.: Искусство, 1976. C. 257.
17
Розанов это хорошо видит: «План “Мертвых душ” – в сущности, анекдот; как и “Ревизора” – анекдот же. Как один барин хотел скупить умершие ревизские души и заложить их; и как другого барина-прощелыгу приняли в городе за ревизора. И все пьесы его, “Женитьба”, “Игроки”, и повести, “Шинель” – просто петербургские анекдоты, которые могли быть и которых могло не быть. Они ничего собою не характеризуют и ничего в себе не содержат. Поразительная эта простота, элементарность замысла; Гоголь не имел сил усложнить плана романа или повести в смысле развития или хода страсти – чувствуется, что он и не мог бы представить и самых попыток к этому – в черновиках его нет». (Розанов В. В. Уединенное. М.: Издательство политической литературы, 1990. С. 317).
18
Переписка Н. В. Гоголя в 2 т. М.: Художественная литература, 1988.
19
Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. В 2 т. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 545.
Вот комментарий В. В. Розанова: «Удивительно, до поразительности удивительно, как эта черновая запись, брошенная Гоголем в корзину и вытащенная оттуда Тихонравовым, не только до глубины выражает, но и до подробностей очерчивает ту картину, над которой мы плачем сейчас. О, наш пророк с «незримыми» его «слезами»; о наш вещун! Не об одной России он плакал; особенность его странной и никем никогда неразгаданной (и источниках) печали быть может лежала в том, что рок указал ему быть Иеремиею не руин своего времени, своего отечества, но культуры европейской, но цивилизации… христианской». (Розанов В. В. В мире неясного и нерешенного. Из восточных мотивов. М.: «Республика», 1995. С. 56)