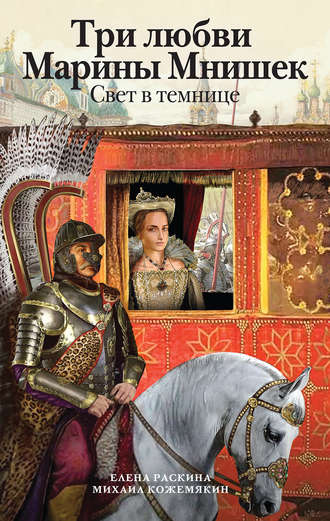
Полная версия
Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице

Елена Раскина, Михаил Кожемякин
Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице
© Раскина Е., Кожемякин М., 2016
© ООО «Яуза-каталог», 2017
* * *Маринкина башня, Коломна, зима 1614 года
Холодные кирпичные стены. Круглая башня Коломенского кремля, ставшая для нее, панны Марианны Мнишек, московской царицы Марии Юрьевны, тюрьмой.
От стены до стены – всего четыре шага. Четыре крохотных шага, как у карлика или у ребенка. Ребенка… Нет, о ребенке ей думать нельзя. Иначе вспомнится То, самое страшное… Видит Бог, самое страшное она уже испытала, и теперь нечего бояться. Разве что смерти? Но что такое для нее смерть? Наверное, освобождение. И еще – возможность увидеться с теми, кто ушел в мир иной. И прежде всего с Янеком.
Мальчик мой милый, сыночек мой любимый, я так соскучилась по тебе! Подожди, Янек, подожди, родненький, мы скоро увидимся с тобой на небе! Господи, Матка Бозка Ченстоховска с Ясной Горы, какая мука!
Нет, про сыночка Янека лучше не думать. Ни про Янека, ни про Димитра – царя Димитрия Ивановича, супруга и возлюбленного, убитого своими подданными в Кремле, в проклятый день 17 мая 1606 года. Ни про родину, ни про отца с матерью, сестер и братьев. Даже про последнего защитника и друга, атамана Ивана Заруцкого, лучше не вспоминать. Монахиня, которая недавно приходила к ней в башню убираться, шепнула, что красавца атамана в Москве посадили на кол.
Неужели это правда – и маленького Янечика тоже убили?… Повесили в Москве, у Серпуховских ворот по приказу нового царя, Михаила Романова? А потом сожгли крохотное тельце – прахом зарядили пушку и выстрелили в сторону Речи Посполитой?
Нет, об этом лучше не думать. Ни о чем нельзя думать. Только молиться милосердному пану Иезусу и Пресветлой Деве Марии. Спать – только без снов – и считать шаги, от стены до стены. Всего четыре шага. Ровно четыре. Как у карлика или ребенка… Ребенка…
Все равно вспомнилось, пришло как наваждение, не отступило. Вспомнилось, как они с Янеком отчаянно вцепились друг в друга в то последнее мгновение. Казалось, никто не сможет оторвать сына от матери. Она все шептала: «Мальчик мой любимый, держи меня крепко! Слышишь, крепко! О, Матка Бозка Ченстоховска, спаси свою рабу Марианну и сына ее Яна!» А потом к ним в башню вошли люди царя Михаила Романова. Сначала стояли у двери – не решались подойти ближе. Один сказал: «Совсем рехнулась ляшка. Как волчица на нас смотрит. И волчонка своего прижимает. Не ровен час, завоет…» Остальные захохотали – мерзко так, по-холопски. Только один из вошедших – немолодой уже стрелец, с бородой, как лопата, – посмотрел на нее с невольным сочувствием – так глядят на несчастную бешеную собаку, которую приказали пристрелить.
Где же она видела это лицо? Вспомнила – в тот жуткий день, когда люди боярина Василия Шуйского убили царя Димитра и чуть не зарезали ее саму, венчанную на царство повелительницу Московии. Нет, этот стрелец не заступится за Янека, ведь он был среди ее врагов тогда, 17 мая, когда свершилось небывалое злодейство… А свершилось оно из-за того, что подлый и лживый старик, князь Василий Шуйский, натравил на нее и Димитра обезумевшую от ярости и хмеля толпу!
Царя Димитрия оклеветали, а ведь он хотел добра своему народу: облегчил подати для торговых людей и землепашцев, запрещал шляхетству требовать обратно крестьян, бежавших в голодный год, мечтал основать первый в Московии университет, хотел, чтобы московиты свободно ездили учиться за границу и перестали платить дань крымскому хану, готовил поход против татар. Он намеревался привлечь сердца подданных не грозой, а милостью, потому и пощадил Василия Шуйского, своего главного и тайного врага. И какой же монетой отплатил ему Шуйский! Видно, в России не скоро еще можно будет править милостью… Только гроза…
Пани Марианна отчаянно закричала, обращаясь к пожилому стрельцу: «Добрый человек, ради Господа нашего, спасите моего ребенка!» Янек крепко-крепко сжал ее шею руками – так что не разожмешь. Он не плакал, смелый мальчик, только все его тельце дрожало.
Стрельцу, видимо, стало неловко. Он решился вмешаться, сказал своим: «Зачем мальца отнимать, братие?! Вон, гляди, от мамки отрываться не хочет! В монастырь на Соловецком острове их обоих али в ссылку в сибирские земли – чай не сбегут, далеконько!» – «Молчи, не твоего ума дело! – прикрикнул на него старший. – Мы люди государевы. Есть приказ: доставить воренка в Москву!» – «Нет! – истошно, как волчица, завыла Марина. – Нет!»
Они подошли ближе. Совсем близко. Тот, кто сочувствовал ей, остался у двери. Она бросила на него вопрошающий, умоляющий взгляд. Он отвел глаза. Видно, ничего не мог сделать. Не стал смотреть на то, что будет дальше. Вышел. Стукнула дверь – глухо, жутко, как топор палача, опускающийся на чью-то бедную шею.
«Мальчик мой, держи меня крепче! Они не заберут нас друг от друга!» Вот они навалились на них – все вместе. Янек закричал, она – тоже! Выли, как волчица и волчонок, но все напрасно. Кто-то ударил ее по затылку – Марианна потеряла сознание. Последнее, что успела увидеть, – глаза Янека, в которых застыл невыносимый, невозможный страх. Потом – пустота и чернота.
Она осталась одна в башне, а Янека увезли в Москву. Увезли и убили. Петлю на крохотной шейке никак не могли затянуть – мальчик три часа мучился. Это было зимой, в промерзшем насквозь, заснеженном городе, и ее Янек, должно быть, просто окоченел в петле. Сначала его несли по холодным улицам, плохо одетого, без шапки, а он все плакал и спрашивал: «Куда вы меня несете?» И никто не сжалился, никто! Потом Янека принесли к Серпуховским воротам, а там мальчика дожидалась петля. Большая, не по его шейке. Петля и палач… Кто рассказал про это несчастной матери? Нашлись добрые люди… Мир, как говорится, не без добрых людей… Только кто тогда – злые?! Ответь, Господи!
Как она рыдала, когда узнала про казнь Янека! Билась головой о каменные стены своей тюрьмы, каталась по холодному грязному полу, кричала как безумная! Сначала сулила немыслимые беды патриарху Филарету Романову, бывшему тайному другу и нынешнему врагу, его бывшей жене, государыне-старице Марфе Ивановне, и сыну – царю Михаилу. А потом в непереносимом материнском горе своем прокляла и весь род Романовых – в исступлении молила Бога, чтобы ни один из них не умер спокойной смертью, чтобы изошло на нет их семя и их царствование. И чтобы страшнее всех была участь последних венценосцев из этого проклятого рода, да не избежит лютого ужаса убийства ни царь, ни царица, никто из их детей…
Боже мой, Пресвятая Дева Мария, так нельзя! Нельзя проклинать – надо прощать. Прощать?! Нет, невозможно простить убийц своего ребенка… Ксендз сказал бы на это, что Матерь Божия простила тех, кто распял ее Сына. И там, на родине, в Польше, Марина согласилась бы с этими словами. Кивнула бы головой, смирилась. Но здесь, в башне, разве может простить она, заживо погребенная? Здесь она стала злой, очень злой… Что у нее осталось теперь, кроме ненависти? Ах, мальчик мой родненький, я не прощу твоих убийц!
Нет, ей нельзя думать о Янеке. Иначе она сойдет с ума. «Не бойся, Янечек, не бойся, мой милый! Скоро мама придет к тебе… Ты ведь теперь в раю, сыночек! Меня туда, верно, не пустят – слишком много грешила на этом свете, но все равно – я верю!! – нам дадут свидание. И пусть мне воздастся не по делам моим, а по мукам! Так ведь тоже бывает, Отец Небесный? Ojcze Nasz, ktorys jest w Niebie[1]…».
Коломна, 1614 год
О таинственной узнице из Круглой башни Коломенского кремля ходили слухи. Тихие, с оглядкой, безыскусные рассказы, пропитанные не то потаенным сочувствием к несчастной ляшке Маринке, не то слишком явной для того, чтобы быть правдивой, ненавистью к ней.
Коломенскому мещанину, торговому человеку Григорию Пастильникову, которого из-за молодости лет, мягкости сердечной и приятной внешности все называли просто Гришей, казалось, что жители Коломны, еще не так давно принимавшие в городе Марину Мнишек как законную московскую царицу Марию Юрьевну, не утратили до конца невольного сочувствия к ней. Как будто не выпили до последней капли чашу с хмельной брагой. Что-то еще оставалось на дне этой чаши – и таинственно, завлекательно поблескивало. Или это Маринкина чудом сохранившаяся красота кружила головы коломенским мужикам? Или молилась она слишком истово, пламенно, так что монашки из местного монастыря, ходившие прибирать ее каморку в башне, прониклись невольной жалостью к несчастной женщине, которая хоть и просила Бога о милости по-инославному, но все же прижимала к губам христианский крест… Стало быть, совсем чужой она быть не могла, а ведь русский люд и чужих жалеть умеет…
Гриша как-то подслушал разговор монастырских сестер. Это было в тот день, когда базар был закрыт ради вывоза и выжига мусора и он без дела слонялся по кремлю. Две монахини: одна пожилая, другая молодая, видно, еще послушница, остановились на минутку у храма святителя Иоанна Златоуста Брусенского монастыря Успения Девы Марии, на покрытом снегом дворе. Монастырь этот был основан при Иване Грозном, когда царь возвращался в свою белокаменную столицу после славного взятия татарской Казани. Первоначально обитель была мужской, но в Смуту ее разорили, чудом сохранилась только гордость монастыря – редкий список с иконы Казанской Божией Матери. Незадолго до воцарения Михаила Романова монастырь восстановили, но ныне как девичий. Мужиков-то война от веры отвратила, ко злу подвигла, а бабам, верно, только во Господе и оставалось утешение…
Совсем рядом, рукой подать, была та самая башня, в кирпичное чрево которой заточили Марину Мнишек, и с той поры она маячила перед коломенцами как невольный укор. Маринку с мальцом сыном и пленным «воровским атаманом» Иваном Заруцким везли в Москву, на расправу. Но несчастная женщина и малец по дороге занедужили, вот и не довезли их до Москвы, оставили на время в Коломне. Потом пришло известие о тяжкой смерти атамана Ивана Заруцкого на кровавом колу, где он умирал почти сутки, мешая слова молитв с проклятиями «подлой боярщине да выкормышу их Мишке Романову и его суке-матери, бесовой Марфушке»… А после и малютку Яна, «воренка», отобрали у матери, увезли на Москву и там убили. Марину пока не трогали. Видно, пока она была нужна новому царю живой!
Григорий понимал, что монахини не могут не смотреть на башню, и, разговаривая, они то и дело бросали на это грозное сооружение настороженные и испуганные взгляды.
– Вот грех-то какой, прости Господи! – вполголоса говорила та, что постарше. – Ведь знаю, что эта Маринка еретичка и колдунья, а все жалко ее – душа ведь человеческая в ней! Равно что заживо замуровали ее в камне этом…
– Брехня это, что Маринка – колдунья, это нам московские служилые люди напели, а мы и уши развесили! – смело вступила в разговор вторая, совсем молодая, крепкая, с загорелым лицом и льняной прядкой, непослушно выбивавшейся из-под платка. – Вон коломенские не все в ее колдовство и дела богопротивные верят. Многие жалеют ее, не таятся, я на базаре слышала.
– Вестимо, что жалеют, они от нее в воровское время многие благодеяния видели. Но из Москвы приказ пришел Маринку стеречь крепко, вот и стерегут, жалеючи, – подхватила пожилая, а после вдруг сделала постное лицо и сварливо выговорила товарке: – Ты не больно-то дерзничай, Аленка, вот скажу матушке настоятельнице, и будет тебе покаяние на хлебе с водой!
Послушница, впрочем, ни капельки не испугалась.
– Да ладно тебе скубтись, сестрица Фекла, – отмахнулась она. – Я ж тебя знаю, все одно доносничать не станешь, так не ворчи! Послушай лучше! Маринке послабление на днях вышло, ей по стене, по забралу гулять разрешили. Не одной, вестимо, под крепкой охраной. Скоро выйдет, она в одно и то же время выходит… Пошли поглядим! Хоть издалека поглядим, а?
Сестры ушли, и Григорий пошел за ними. Сам не знал зачем. Видно, посмотреть на Маринку захотелось. Какова она, колдунья эта, или вовсе не колдунья? Так ли красива, как говорят? Правда, голову вверх задравши, немного рассмотришь, но у него, как у всех в Коломне, глаза зоркие, он разглядит.
На крепостной стене показалась кучка людей. Между двумя здоровенными стрельцами, вооруженными, как для боя, смутно виднелась узкая, темная фигура, скорее похожая на тень. Гриша задрал голову, пытаясь рассмотреть таинственную узницу. То же самое сделали монахини. Но толком ничего не было видно, кроме того, что она стройна, маленького роста и одета во что-то черное, длинное, а сверху будто тощая шубейка накинута. Монахини стали креститься, и старшая, уже не скрывая сочувствия, зашептала товарке нараспев, словно причитая:
– Ох, бедная, ох, горемычная, прости ее, Господи… Говорят, сына у нее отобрали и в Москву увезли, а он – совсем малец. Зачем такой малец нашему государю?
– Убили его в Москве… Точно говорю, убили… Повесили, а потом тельце крохотное сожгли и пеплом пушку зарядили…
Необычная какая-то послушница, подумалось Грише, дерзкая и злая. Не по своей воле, должно быть, за монастырскими стенами. А быть может, и не злая вовсе, а просто родилась с неодолимой тягой к правде, к свободе. Некоторые по произволению Божьему такими на свет рождаются! Вот хоть лихой атаман Ванька Болотников[2], упокой его душу, таков был, оттого и тряхнул со своею мужицкой и казацкой ратью боярский престол на Москве…
Мысли о занятной послушнице на мгновение отвлекли Гришу, и он пропустил момент, когда черная фигура вдруг прильнула к самому краю стены, словно хотела броситься вниз.
– Неужто и вправду сбросится? – охнула монахиня постарше. – Ой, люди честные, держите ее, горемычную, не дайте ей себя сгубить!
Но сброситься со стены было невозможно. Боевой ход[3] был прикрыт с одной стороны зубцами, с другой – надежной оградой, а рядом с Мариной маячили стрельцы – охрана. Вдруг что-то белое и тонкое, хрупкое, как снежинка, слетело с вала вниз. Платок… Григорий подбежал и ловко схватил легкую, ажурную вещицу – да так быстро и ловко, что люди, стоявшие там, на валу, не заметили его прыти. А монашки сделали вид, что не заметили, хотя младшая успела метнуть на расторопного парня быстрый, заинтересованный взгляд. Гриша спрятал платок за пазуху и пошел прочь. Он развернул его, только когда зашел в безлюдный проулок, осторожно оглядываясь по сторонам.
На платке была искусная вышивка – как будто церковь польская, с крестом наверху, а еще – ляшская надпись, как будто молитва: «Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami…»[4]. И так заболело сердце Григория от этого платка, пропитанного слезами узницы, что не унималось долго, целый день. Понял он, что Маринка – не колдунья вовсе, а душа несчастная, горемычная, что в каменном плену мается и Христа о помощи просит.
Гриша хорошо помнил все злое, что говорили об этой загадочной женщине и о ее винах в постигших Русь в Смутное время несчастьях… Но разве не велел Спаситель прощать врагам своим? Разве не искупила она страданием свои преступления, если только действительно свершала их вольно, а не по принуждению?
Вот бы обрести сказочную силу, разбить запоры, разметать стены, освободить таинственную узницу! Да только разве под силу такое мирному человеку мещанского звания? Ему бы, Грише, для начала хоть с лихоимцем базарным старостой, который непомерную мзду за место дерет, справиться!
Маринкина башня, Коломна, 1614 год
Узница башни опять видела во сне родину. Опять летела к ней, обернувшись птицей, летела так быстро, как только позволяли уставшие, израненные крылья. О, моя веселая, щедрая, смелая, гордая Польша, неужели я никогда тебя больше не увижу? Как я мало ценила тебя, когда видела каждый день! Как мало любила тебя, когда жила в Самборе, в старом замке, или в пышном, переполненном шляхтой Кракове! Тогда панна Марианна Мнишкова мечтала стать королевой, подобной гордой властительнице Боне, которая часто останавливалась в Самборе, или царицей Московии, если, конечно, рыцарь, называвший себя чудом спасенным сыном русского царя, поднесет ей эту корону на острие сабли. Теперь же, когда корона Московии была обретена и утрачена, когда Марианна потеряла всех, кого любила, все царства мира вызывали у нее лишь отвращение и боль. Теперь она знала кровавую изнанку власти.
Все начиналось так красиво, так благородно: старый сад в Самборском замке, ее любимая скамейка, благородный рыцарь у ног, а до этого старшая сестра Урсула то и дело шептала на ухо: «Смотри, Марыся, как он влюблен в тебя, а он ведь и вправду московский царевич! Ты будешь царицей, Марыся!» Марина ехала в Москву с радостью и любопытством. Двуглавый московский орел был вышит на ее пуховых рукавичках, изумрудная брошь украшала меховую шапочку. А какие на этой шапочке были перья, а какую чудную соболью накидку прислал ей влюбленный Димитр, ставший московским царем! Она прижималась щекой к ласковому, нежному меху и грезила, беспрерывно грезила о своей будущей славе!
Слава?! Какое пустое слово! Оказалось, что оно ничего не весит, ну почти ничего! Меньше, чем зола от сожженных писем! Как быстро проснулась она, самборская гордая панна, ставшая московской царицей Марией Юрьевной, от своего золотого сна! Был невиданно теплый для Московии, почти жаркий май 1606 года, и накануне вечером царь Димитрий устроил в Кремле бал на польский манер. Играли польские музыканты, съехавшиеся в Москву на свадьбу панны Марианны, шляхтичи танцевали мазурку. И сам царь Димитрий Иванович кружился в первой паре со своей молодой супругой. А утром – этот страшный набат, крик, гам, в Кремль ворвались вооруженные люди и вероломно убили своего венчанного на царство властелина, а она, Марианна, чудом спаслась! А потом стали резать поляков по всей Москве, и свадьба ее превратилась в кровавую баню…
С тех пор Марина возненавидела колокольный звон. Она просто не могла его слышать, всякий раз затыкала уши. Все ей казалось, что с этим звоном придут ее убивать… Ее саму или тех, кого она любит. Любит? Уже – любила… Ведь все в прошлом.
Как ты шептала, Урсула, помнишь: «Ты будешь царицей, Марыся, самой прекрасной царицей на свете!» Я стала узницей, жалкой пленницей, и мне не вырваться из этой башни, разве что во сне! Все мои рыцари погибли: погиб Димитр, московиты надругались над его телом, сожгли несчастную, израненную, окровавленную плоть, а прахом выстрелили из пушки!
Тот, второй, который в Тушинском лагере под Москвой назвался именем Димитра, и я согласилась на этот обман, чтобы отомстить, он тоже погиб, под Калугой. Тушинскому царю отрезал голову крещеный татарин Петр Урусов, которого она, царица Марина, незадолго до этого, по жалости и милости, освободила из тюрьмы. В тюрьму Урусова бросил тушинский царь, а Марина упросила мужа освободить несчастного…
Освобожденный узник вышел на волю с крепкой обидой, как-то поехал охотиться вместе с «цариком» и выместил свою злобу, убил дьяка Богданку Сутупова, называвшего себя царем Димитрием Ивановичем. Выходит, тушинский царь погиб по ее, Марины, вине… Зачем она хлопотала за Урусова, зачем пожалела своего врага? Так Димитр пожалел вероломного Шуйского – себе на погибель…
И третий, последний рыцарь, Ян Заруцкий, до последней минуты защищавший Марину и сына, умер на колу, в страшных мучениях! Каким мощным и хмельным вихрем ворвался в ее жизнь среди грязи и бесчестья разбойного Тушинского лагеря этот блестящий всадник! Как бесстрашно и бесстыдно взял он ее, словно не успевшую изготовиться к защите крепость… Впрочем, она сама распахнула ворота своего сердца этому неотразимому завоевателю. Это была зрелая, греховная, страстная любовь, любовь-измена второму мужу-лжецарю с настоящим мужчиной, победителем, захватчиком, вождем… Господь укрощает гордыню сильных! Атаман Ян, как Марина любила называть его на польский манер, еще при жизни пережил крушение всех своих дерзновенных помыслов, а теперь разлучился со своей возлюбленной в смерти.
И нет больше ни в Речи Посполитой, ни в Литве рыцаря, чтобы вступиться за бедную Марину! Московиты ненавидят меня, Урсула! Видишь, чем обернулась моя земная слава! Соотечественники отреклись от меня, а московиты ненавидят свою коронованную царицу. Я совсем одна, Господи! Господи, помилуй! Спаси меня, Дева Мария, Царица Небесная!»
Марина упала на колени, взяла в руки четки и стала читать молитву на розарии, как ее учили когда-то монахи-бенедиктинцы в Самборе. Нет у нее больше заступников, кроме пана Иезуса, Девы Марии и Отца Небесного! Никого больше нет…
Внезапно распахнулась дверь. К ней в башню всегда входили без стука, ибо даже этот жалкий тюремный угол был не своим, а чужим, ибо принадлежал чужбине. Вошла молодая монастырская послушница, приставленная к пани Марианне для услуг, а может, и для надзора. Эта девушка прервала беседу Марины с Богом: стала убираться, оттеснив узницу на узкую, жесткую кровать, жалкое подобие царского ложа.
Обычно послушница не говорила ни слова, хотя порой смотрела на бывшую московскую царицу с невольным сочувствием. Но на вопросы не отвечала, как бы Марианна ни пыталась увлечь ее разговором. Наверное, ей запрещали говорить с заключенной. Но в этот раз девушка почему-то разжала уста и быстро сказала: «Из Москвы ближний царев человек едет. Видать, за вами, Мария Юрьевна. Исповедоваться бы вам и причаститься. Может, ваш час пришел…»
Марина вжалась в холодную стену башни, как будто уже представляла, как завтра или уже сегодня ее будут отрывать от этих стен и тащить навстречу смерти. А может, это избавление? Ведь там, на небесах, ее встретят Янек и Димитр, и ее последний рыцарь – Ян Заруцкий?
– Кому мне исповедаться? – быстро шепнула она послушнице. – Здесь нет ксендза, а в вашу веру я не переходила…
– Даже когда царицей на Москве были? – не поверила девушка.
– Даже тогда.
– А сынок ваш?
– Его я по вашей, греческой вере окрестить позволила. И за это от меня поляки отвернулись. Наша церковь, католическая, мне Янековых крестин не простила. Да и не Янек мой мальчик. Ваня, Ванечка… Только на Москве его воренком зовут. Звали…
Слезы сами навернулись на глаза. Нет, ей нельзя думать о погибшем сыне. Иначе она сойдет с ума. Ни о чем нельзя думать… Только ходить от стены к стене. И считать шаги. Ровно четыре шага. Как у карлика или у ребенка…
– Вы молитесь, Мария Юрьевна. Господь живую душу завсегда услышит, – сочувственно сказала послушница.
– Разве ты не ненавидишь меня? – удивилась Марина. – Меня все здесь ненавидят.
– На Москве, может, и ненавидят, а наши, коломенские, жалеют. Говорят, вы несчастная. У вас сына убили. Упокой, Господи, душу безгрешную…
Тут смелая девушка неожиданно совсем по-детски зашмыгала носом и прижала к глазам край своего посконного передника.
Марина закрыла лицо руками. Опять встало перед ней то, о чем она боялась и не хотела думать. Лицо Янека в то страшное мгновение, когда его отрывали от нее. Янек, мальчик мой милый! Мальчик мой несчастный…
Послушница смотрела на Марину с глубокой жалостью. Вздохнула, но ничего не сказала. Пошла к двери.
– Как зовут тебя? – бросила ей вслед Марина.
– В миру Аленой Литвиновой звали. Меня сестры монастырские на постриг готовят.
– Я слыхала, что разорили ваш монастырь… Только не мои это люди были – даже если поляки. Я когда в Коломне у вас жила, грабить никого не позволяла. Ты должна об этом знать.
– Знаю, Мария Юрьевна, все так говорят…
– Благослови тебя Господь, Хелена!
Послушница вышла. А Марина вернулась к своей прерванной молитве. «Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami…[5] Может, скоро настанет час моего избавления или смерти? Господь Всемогущий, заступись за меня! Пусть святой Ежи станет моим последним рыцарем!»
История послушницы Алены
Алена Литвинова была дочерью коломенского дворянина, не богатого, но и не бедного, всю жизнь служившего московским государям за честь и за совесть, а не за имение. И ждала Аленку самая обычная судьба девицы честного дворянского рода: вышивала бы гладью, заплетала льняную косу до пояса, щелкала бы орешки да, глядя от скуки в окно светелки, мечтала бы о счастье. Пришло бы время, и посватался бы за нее кто-нибудь из местных дворян, или молодой молодец, или почтенный вдовец. Вышла бы Аленка замуж, нарожала бы детишек… А со счастьем – это как Господь произволит!
Но пришла Смута. Когда сел царем на Москве хитрый и безжалостный Васька Шуйский, отец Алены усомнился в том, что несчастный, с телом которого пьяная кровью и разбоем толпа расправилась так люто, был лжецарем, невесть откуда взявшимся бродягой. В те времена многие задавали себе вопрос: «А ежели он и вправду Димитрий?», но другие спрашивали про себя, а Федор Литвинов осмелился спросить вслух: в своем дому, за чашей, среди друзей и родни. И вопрос-то был задан как-то вскользь, словно нечаянно сорвался с губ, и каких-либо явных действий в защиту Самозванца или его супруги, а теперь вдовы, царицы Марии Юрьевны, Литвинов не предпринимал и даже не помышлял об этом, но все равно нашелся доносчик, который настрочил верноподданническое послание государю Василию I.




