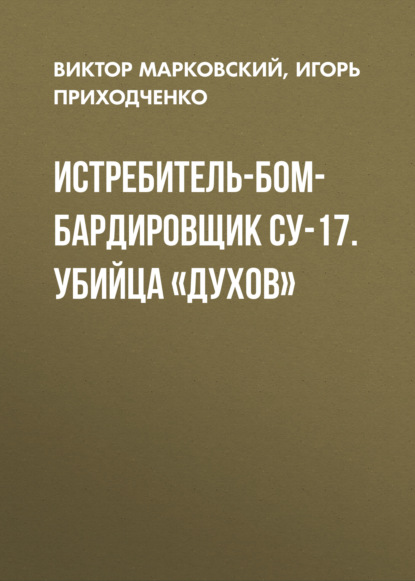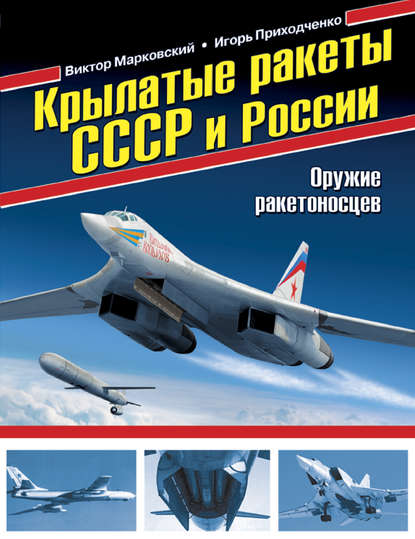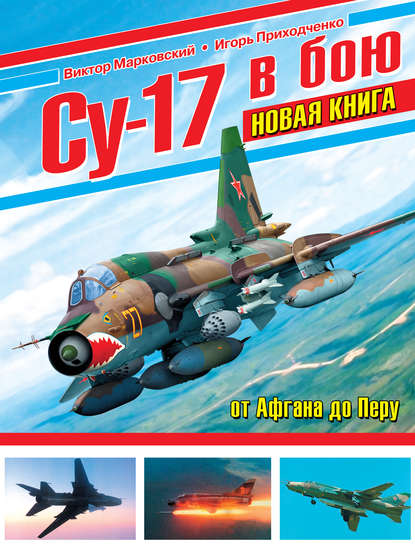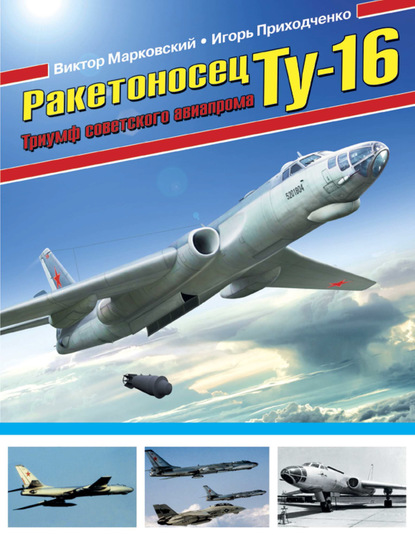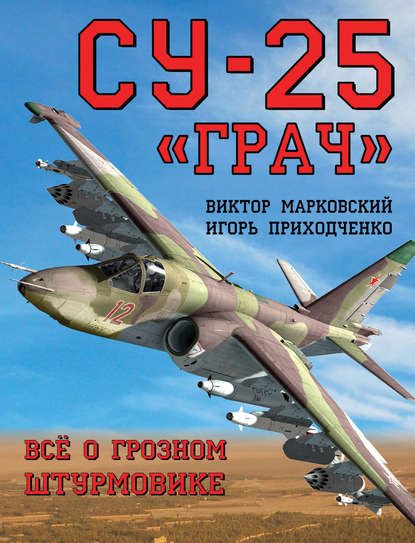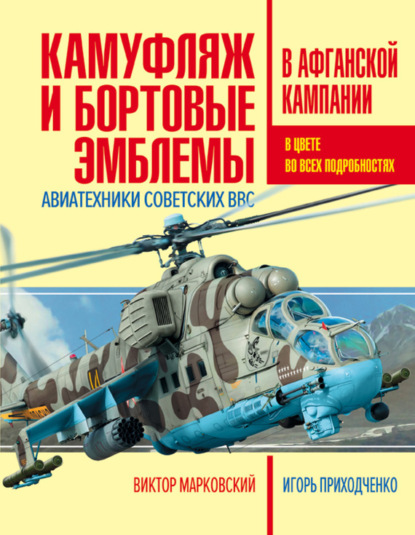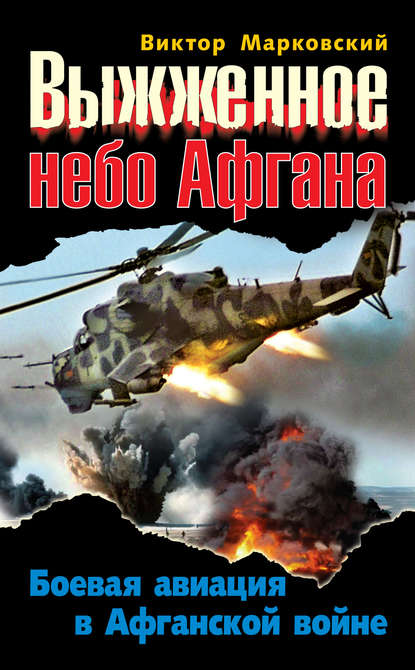
Полная версия
Выжженное небо Афгана. Боевая авиация в Афганской войне

Фотопланшет с изображением места удара и данными о цели до удара…

…и после него. Фотографирование объекта атаки по окончании удара выполнялось для точной оценки поражения цели
Истребители-бомбардировщики 136-го апиб регулярно привлекались к работе над Панджшером, служившим оплотом формированиям Ахмад Шаха. В конце февраля МиГ-21ПФМ вели разведку объектов противника в ущелье. Тут же звену капитана Таштамышева потребовалось подниматься для работы по вызову. Заказчиком выступал корректировщик артогня, находившийся на вершине скалы, однако выдача целеуказания самолетам для него была незнакомым делом («их команды «три десять влево, два дальше, целик пятнадцать» нам не понятны»), из-за чего пришлось обратиться к помощи коллег из армейской авиации. Наведением на цель занялись вертолетчики, указавшие место на вершине склона как раз перед постом корректировщика. Командир звена рассказывал об атаке: «На вводе в пикирование распустили пару, каждый самостоятельно целился и пускал НУРСы. Они прошли мимо и улетели за склон. Тут же отдав от себя ручку, что само по себе было страшным нарушением – уточнять прицеливание увеличением угла пикирования непозволительно, из крутого снижения уже не выйдешь, за такое голову снимали, если до этого не убивался сам – успел еще раз пустить снаряды на выводе. Если бы не склон, высоты бы для вывода не хватило».
Основными районами ведения разведки истребителей Баграма назначались зоны в Панджшере и по Кунарскому ущелью. При ведении разведки предписывалось после обнаружения вызывающих сомнение объектов сначала запросить наземный КП через самолет-ретранслятор и после их проверки обстановки получить разрешение на применение оружия. Впоследствии подобные вылеты с самостоятельным обнаружением целей и их атакой получили наименование разведывательно-ударных действий (РУД). На первом этапе, однако, они не отличались эффективностью: поиск большей частью малоразмерных и неприметных целей с высоты и при скоростях полета истребителей в 900-1000 км/час был малорезультативным, да и распознать, кто находится в дувале или селении внизу, практически не было возможным. И без того из-за отсутствия надежных ориентиров случалось при вылетах к Кунару выскочить за пограничную черту. Иной раз подобное нарушение было осознанным, будучи вызванным построением маневра в приграничной полосе. Как-то в конце февраля при поиске служившей пристанищем противнику крепости у Асадабада цель отыскалась прямо на пограничной черте. На карте ее положение выглядело вполне очевидным. Чтобы в повторном заходе получше ее рассмотреть, пришлось разворотом зайти с обратного направления, пройдя над горами с пакистанской стороны. Опасений у летчиков такие маневры не вызывали – пакистанцы проявляли сдержанность, и в мирном до недавних пор пространстве их истребители тогда еще не дежурили.
В начале марта МиГ-21ПФМ чирчикской эскадрильи перелетели в Кабул. Их машины стали первыми боевыми самолетами в столичном аэропорту, где прочие авиационные силы были представлены несколькими вертолетами. Готовилось прибытие транспортной авиагруппы и нескольких десятков вертолетов в составе 50-го смешанного авиаполка (сап), однако знаменитый впоследствии «полтинник» тогда еще только формировался на советских аэродромах. В аэропорту Кабула стоянок для боевой техники не было, и прибывшей эскадрилье пришлось занимать место прямо на магистральной рулежной дорожке, выстроившись «елочкой» вдоль бетонки, на виду у рулящих мимо пассажирских самолетов афганского «Бахтара» и соседних восточных авиакомпаний. Задачами назначались те же вылеты в сторону районов, граничащих с Пакистаном, но по большей части летали на разведку над самим Кабулом. Поводом стали волнения и антисоветские выступления в столице, обстрелу подверглось советское посольство. Противник открыто выказывал намерения, и для восстановления контроля над положением в Кабуле потребовалось привлекать не только войска, но и авиацию, выглядевшую самым внушительным образом. МиГи, проносившиеся над городом, производили впечатление одним своим громом и демонстрацией мощи. Летали в том числе на малых и предельно малых высотах, где высотомер был бесполезен, и следили лишь за тем, чтобы не нырнуть под провода («что называется, ходили по головам»). Город для удобства ориентирования разбили на секторы, используя карты самых крупных масштабов. Задача ставилась следующим образом: стоявшую на боевом дежурстве пару поднимали, направляя в соответствующий сектор. Находясь над своим сектором, летчики наблюдали за обстановкой, докладывая о происходящем. Если внизу замечалась собиравшаяся толпа, докладывали на КП и принимались за «наведение порядка». Снизившись на предельно малую высоту, проходами над сборищем утюжили его. Мало кто из афганцев видел самолет вблизи, так что эффект достигался самый устрашающий. Позади разлетались хворостяные крыши, взвивались в воздух полотнища навесов, и валились хлипкие саманные стены. Выдержать сотрясающий гром и свист проносящихся самолетов было невозможно, и публика внизу разбегалась после одного-двух проходов. Применения средств поражения не требовалось, и обходились одним только «давлением на психику».

Подвеска реактивных снарядов С-24 на истребителе МиГ-21бис 115-го иап
Подобные вылеты к боевым не причислялись, да и само понятие боевого вылета, толком не оговоренное наставлениями, трактовалось летчиками по-разному. Одни считали, что любой вылет с боекомплектом является боевым, независимо от того, имело место боевое применение или нет. Другие возражали, что таковым можно считать только тот, в котором применялось оружие, стреляли или бомбили. Как при этом относиться к вылетам на разведку, однозначного мнения и вовсе не было. Поэтому «отметиться» со стрельбой старались все, подтверждая звание военного летчика. К тому же прошел слух, что за 20 боевых вылетов (пусть даже неясно какого назначения) обещано представление к ордену. Боевых наград в полку никто не имел, так что перспектива звучала крайне заманчиво. Кое-кто и вовсе в полете при всяком удобном случае докладывал: «Вижу цель, разрешите атаковать». По возвращении никто особо не допытывался – что за противник встретился и каковы результаты, записывая боевое применение. За все это время боевых повреждений на МиГ-21ПФМ не было.

Техники грузят бомбы на тележки для доставки к самолетам
Участие МиГ-21ПФМ в афганской кампании оказалось недолгим. Самолет, находившийся на вооружении еще с 1963 года, к началу 80-х морально устарел и должен был уступить место более современной технике. 13 марта 1980 года эскадрилья 136-го апиб была отозвана из Афганистана, возвратившись к месту базирования части в Чирчик. Дома летчиков и техников ожидало переучивание на новый для них МиГ-21СМ. Самолет представлял собой предшественник «биса», также будучи представителем предыдущего поколения – доставшиеся полку машины были выпущены лет десять назад и успели послужить в других полках, сменивших их на вновь поступавшие МиГ-23. В качестве истребителя-бомбардировщика МиГ-21СМ с меньшим запасом топлива несколько уступал «бису» по дальности, однако был легче, имел те же четыре точки подвески и сходный ассортимент вооружения. Переучивание на сходный тип заняло буквально несколько недель, а с января находившиеся на базе летчики двух других эскадрилий к этому времени успели освоить МиГ-21СМ и были привлечены к формированию вновь отправляемой в Афганистан группы. В апреле-мае в состав ВВС 40-й армии были направлены уже две эскадрильи 136-го апиб, а в сентябре вслед за ними отправили остававшуюся третью эскадрилью.
Одну из эскадрилий 136-го апиб перебросили на аэродром Шинданда – крохотного городка в пустыне у иранской границы, где располагался крупный аэродром с полосой длиной 2940 м, ставший опорным пунктом советских войск в этих местах. Шинданд стал главным местом базирования истребительно-бомбардировочной авиации – МиГ-21СМ чирчикского полка подменяли переброшенные еще при вводе войск Су-17. Другую эскадрилью 136-го апиб разместили в Кандагаре. Шинданд, Баграм, а также Кандагар и в дальнейшем оставались базовыми аэродромами, между которыми при необходимости производилась переброска самолетов для сосредоточения мощных ударных групп, служа своего рода «сухопутными авианосцами», у которых концентрировались и другие части. Северные провинции ДРА Балх, Джузджан и Фариаб в основном «обслуживали» МиГ-21 с аэродрома Кокайты, летчики которого называли местные банды «своими подшефными».
Пребывание МиГ-21СМ в составе ВВС 40-й армии также не затянулось. Эти машины служили в 136-м полку чуть больше года, а воевали и вовсе ограниченное время, пока не было получено указание о переходе на новую и гораздо более современную технику – истребители-бомбардировщики Су-17М3. Эскадрильи поочередно стали возвращать в Союз для переучивания. Первой зимой 1981 года отправилась домой 1-я эскадрилья, за ней в феврале последовала 2-я, и только 3-й эскадрилье пришлось задержаться до конца апреля.
Тем не менее именно с недолгой эксплуатацией МиГ-21СМ оказалась связанной первая потеря 136-го апиб. В ходе переучивания на новый самолет 29 января 1980 года старший лейтенант Игорь Копьев разбился при возвращении на аэродром. Уже на подходе при выпуске посадочной механизации оторвался левый закрылок, самолет мгновенно перевернулся на спину и врезался в землю. На малой высоте не было возможности ни вывести машину, ни покинуть самолет, и молодой летчик погиб. В бумагах по какой-то причине осталась запись о гибели «при возвращении с боевого задания». По всей вероятности, поводом стало участие полка в это время в боевых действиях, к которым, однако, молодые летчики с недостатком опыта не привлекались.
При постановке задач командование ВВС 40-й армии не делало особых различий между истребителями и истребителями-бомбардировщиками. Работы хватало всем, а по выучке истребители не уступали летчикам истребительной авиации, получая возможность на практике проверить навыки бомбометания и штурмовки, отрабатывавшихся по курсу боевой подготовки истребительной авиации. Бомбить с горизонтального полета на МиГ-21 было бесполезно ввиду неприспособленности машины к такой работе, и основным способом боевого применения являлись атаки с пикирования. Расчет при этом строился с заходом с безопасной высоты по условиям вывода, учитывая большую просадку самолета на выходе из пикирования в горных условиях со значительными превышениями и разреженностью воздуха. Требовалось также принимать во внимание повышенный разгон самолета с боевой нагрузкой при крутом пикировании, которое доводили до 60о, добиваясь точной укладки бомб. Хотя прицельное оборудование МиГ-21бис, оснащенного только стрелковым прицелом АСП-ПФД-21, выглядело более скромным по сравнению с прицельными комплексами новейших модификаций Су-17 и Су-25 с их вычислителями, лазерными дальномерами и допплеровскими радиосистемами, но в горах, занимающих 80 % территории Афганистана и служивших основным прибежищем противнику, сложная автоматика давала много промахов, и на первый план выходили навыки и индивидуальные приемы летчиков, прицеливавшихся при сбросе бомб «по кончику ПВД». Эффективность ударов при отсутствии знакомых по боевой учебе целей – скоплений боевой техники, сооружений, позиций ракет и артиллерии – оставалась невысокой.

Афганский МиГ-21бис на рулежке Баграмского аэродрома.
Самолет несет четыре стокилограммовых бомбы ОФАБ-100-120
Летавший молодым лейтенантом на МиГ-21бис М. Правдивец так вспоминал о своем первом боевом вылете: «Весной 1980 года летчиков в полку не хватало и пришлось доводить находившиеся в Афганистане эскадрильи до штатного комплекта переводом из других частей. Когда прибыл в Афганистан, никакого опыта у меня не было. Объяснили, что работать придется все больше «по земле», а мы даже учебные практические бомбы ни разу не бросали. О теории бомбометания и технике пилотирования при ударах представление было туманным. Что-то все же я знал – как-никак училище с красным дипломом закончил, – но навыков не было никаких. Такими вот «асами» усилили боевые эскадрильи. После нескольких тренировочных полетов комэск включил меня в боевую пару. Предстояло нанести удар в Парминском ущелье рядом с Баграмом (мы его потом звали «алмазным ущельем», там повсюду были россыпи драгоценных камней). Зарядка самолетов – по четыре бомбы ОФАБ-250-270. Атаку выполнять по указаниям авианаводчика, цель – огневые точки по склонам гор.

Взлет афганского истребителя из Баграма
После постановки задачи я спросил у комэска: «А как бомбы сбрасывать?» Он мне объяснил, что главное – держать боевой порядок и смотреть на него. Как только у него бомбы сойдут, то и мне сбрасывать с задержкой «и р-раз…», потому что с первого захода и в первой в жизни атаке я все равно не найду, куда целиться, тем более что удар мы должны наносить по «предполагаемым» огневым точкам. А задержка нужна, чтобы бомбы легли с рассеиванием, нет смысла класть все восемь штук в одно место, пусть эти две тонны накроют площадь, так надежнее. Вылет выполнялся 8 августа ранним утром. Взлетели с рассветом, пока прохладнее, иначе взлет летом в дневную жару с четырьмя подвесками очень непрост. Самолет с четырьмя бомбами и впрямь разбегался непривычно долго. Над местом связались с наводчиком, он подсказал ориентиры и склон, по которому надо работать. В ущелье ранним утром было еще темновато. Следом за ведущим пикируем куда-то в темень. У него сошли «капли», я тоже жму на сброс. Впервые в жизни услышал, как самолет дрогнул при сходе бомб. Вывод. Наводчик говорит, куда легли разрывы, и корректирует. Переключились на внутренние подвески и сделали еще заход. Опять сброс. Вывод. С земли просят «поддать еще разок», но ведущий докладывает, что «капель» больше нет, работу закончили и уходим на точку». Годом спустя Михаил Правдивец был уже опытным воздушным бойцом и имел на своем счету 380 боевых вылетов.
В первый период боевых действий тактика не отличалась разнообразием: к цели самолеты, ведомые опытным летчиком, шли в строю колонны или пеленга, нанося удар один за другим, а иногда выстраиваясь в круг. Штурмовка цели производилась последовательно поодиночке или парами с пикирования бомбами, НАР и пушечным огнем. Ответная стрельба из автоматов и дедовских винтовок при этом не принималась в расчет, и на открытой местности летчики МиГов отваживались снижаться до предельно малых высот для достижения внезапности атаки. Включив форсаж и выйдя на сверхзвук, они подавляли врага громовым раскатом ударной волны, от которой вьючные лошади и верблюды (основной транспорт душманов) в ужасе разбегались по окрестностям. Поначалу приходилось ограничиваться почти исключительно действиями пар, но с наращиванием авиационной группировки пары сменили более солидные ударные группы. Удары стали наноситься группами в 4–8 истребителей, поскольку в условиях, когда каждый дувал в кишлаках, скала и расщелина в горах могли служить укрытием для противника, атака меньшими силами была неэффективна. При необходимости на бомбардировку баз и укрепленных районов уходили 12–16 самолетов. Особенностью действий истребительной авиации стала работа по объектам, расположенным в высокогорных районах, куда не могли «дотянуться» вертолеты и штурмовики. Истребители участвовали и в проводке транспортных колонн, при попытке обстрела образуя «внешнее кольцо» охраны ударами по выявленным огневым позициям. Над самой колонной непосредственное прикрытие вели сопровождавшие ее вертолеты.

Панорама Баграмаской базы. На заднем плане – стоянка афганских истребителей-бомбардировщиков Су-22
Для более надежного взаимодействия с авиацией в состав колонн стали включать корректировщиков и авианаводчиков. Их назначали из числа летчиков и штурманов, по разным причинам оставивших летную работу, руководствуясь теми соображениями, что те достаточно хорошо представляют себе специфику деятельности в воздухе и, по крайней мере, знают, как выглядит местность и цель сверху. Обычным образом к проведению рейдовой операции привлекалось до двух батальонов мотострелковых войск или десантников с необходимым усилением бронетехникой и артиллерией, а также инженерными подразделениями для разминирования и снятия завалов при расчистке дорог. В составе группы руководства операцией находился представитель от авиаторов, которому выделялся специально оборудованный БТР, оснащенный радиостанциями для связи с КП ВВС. Такая группа боевого управления авиацией (ГБУ) при проведении боевых операций придавалась каждому мотострелковому или десантному батальону. В роты направлялись авианаводчики, находившиеся рядом с командиром мотострелкового или десантного подразделения, передвигаясь на броне БТР и БМП. Обязанности наводчика требовали постоянного внимания, хорошей ориентировки на местности, тактических способностей – от него зависела эффективность авиационной поддержки, и при мощных налетах место на КП занимал командир работавшего полка. Корректировщики, сопровождавшие войска в боевых порядках, должны были обладать еще и немалой выносливостью: им приходилось волочить на себе громоздкую рацию с блоком аккумуляторов 23-килограммового веса. Для этого обычно назначались два человека, включая солдата-помощника для переноски вьюка с аккумуляторами. Иногда использовался переносной генератор с ручным приводом, известный как «солдат-мотор». В горах, экранировавших прохождение радиоволн, для обеспечения радиосвязи необходимым становилось привлечение специальных самолетов-ретрансляторов Ан-26РТ, постоянно «висевших» над местом боевых действий. За первый год войны на обеспечение управления войсками их экипажами было выполнено 620 вылетов с общим налетом 2150 часов.
Положение своих войск при штурмовке обозначалось цветными дымами сигнальных шашек, по ним же при поиске целей, руководствуясь командами с земли, определялись летчики. Применение оружия летчиками допускалось исключительно с разрешения авианаводчика, получавшего «добро» от командира сухопутной части, за которым он был закреплен. Тем самым сводилась к минимуму вероятность нанесения удара по своим, чего не удавалось избежать при самостоятельных действиях авиации. Перефразируя известное замечание о том, что «война – это слишком серьезное дело, чтобы его поручать военным», можно сказать, что и боевая авиация – это слишком грозная сила, чтобы поручать управление ею самим летчикам.

Летчики 27-го гв. иап обсуждают вылет на «спарке» МиГ-21УМ
Противник быстро оценил значение «управляющих» и старался вывести их из строя в первую очередь. Пленные моджахеды рассказывали, что их специально инструктируют по обнаружению и уничтожению авианаводчиков. Среди авиаторов офицеры боевого управления несли наибольшие потери, заслужив строки в песне:
Враг знает точно – там, где дым,Лежит наводчик, невредим,И силу своего огняОн направляет на меня…Другой тактической новинкой стало взаимодействие авиации с артиллерией – летчики наносили удар по разрывам, целя по хорошо видимым облакам пыли у цели.
Еще одним непременным условием обеспечения действий авиации стала организация поисково-спасательных работ. Сбитый экипаж должен был иметь твердую уверенность, что его не оставят в опасности. На каждом аэродроме при производстве полетов в готовности находилась пара Ми-8 службы поиска и спасения (ПСС), ожидавшая вызова. Однако такое дежурство имело тот недостаток, что до места вынужденной посадки или приземления летчика требовалось добираться некоторое время, что могло окончиться печально для оказавшихся на контролируемой противником территории. Душманы не упускали случая поквитаться с ненавистными авиаторами, да и встреча с рядовыми жителями кишлака, по которому только что прошли бомбовым ударом, не сулила ничего хорошего. Оперативность ПСС являлась первостепенным условием ее деятельности, и было немало трагических случаев, когда буквально десяток минут задержки завершался для сбитого летчика трагически. Наиболее эффективной мерой стало оказание помощи пострадавшим из положения дежурства в воздухе с вертолетным сопровождением ударной группы. Присутствие вертолетов ПСС над местом удара позволяло буквальным образом тут же выхватывать с земли сбитый экипаж. За 1980 год было произведено 57 поисково-спасательных работ (вылетов было значительно больше, поскольку на подбор одного экипажа иной раз приходилось поднимать несколько вертолетных пар подряд), спасено 126 человек летного состава.
«Бис» уверенно поднимал до тонны бомб, но полную нагрузку брали лишь при работе в близлежащих районах. Обычно МиГ-21 несли зарядку, не превышавшую двух 250-кг бомб – сказывались разреженный воздух высокогорья и жара (уже при обычных для этих мест +35о С тяга двигателей Р25-300 падала на 15 %). В этих условиях при нормальном взлетном весе разбег самолета достигал 1500 м против обычных 850 м. С «пятисотками» самолет к тому же становился труден в управлении на взлете и заметно терял скороподъемность. Брать большую бомбовую нагрузку за счет сокращения заправки было рискованно – летчики предпочитали иметь навигационный запас топлива при возвращении домой. Если обнаружить аэродром все же не удавалось, инструкция предписывала взять курс на север и после полной выработки горючего катапультироваться над советской территорией.

МиГ-21бис в полете на бомбометание. Самолет несет пару 500-кг бомб
Чаще всего применялись фугасные бомбы ФАБ-250 и осколочно-фугасные ОФАБ-250-270 с площадью поражения за полтора гектара, а также разовые бомбовые кассеты РБК-250 и РБК-250-275, отличавшиеся начинкой. Первая могла комплектоваться малокалиберными осколочными боеприпасами АО-2,5сч или десятикилограммовыми АО-10сч. Кассета второго образца вмещала 150 осколочных боеприпасов АО-1сч. Каждый такой боеприпас представлял собой маленькую осколочную бомбу килограммового веса с корпусом из сталистого чугуна, ломкого и дающего множество осколков с убойной силой в радиусе до 10–12 м. Сброшенная кассета срабатывала на установленной высоте, и ее содержимое выбрасывалось вышибным зарядом из обычного охотничьего дымного пороха, обеспечивая накрытие обширной зоны. Поражающие характеристики осколочных бомб такого калибра позволяли не только бороться с живой силой, но и вполне удовлетворительным образом могли быть использованы при поражении машин в душманских караванах и стрелковых позиций, обычно прикрытых камнями, сносившимися попаданием небольших бомб.
Еще большей эффективностью обладали «шарики» пятисоткилограммовой кассеты РБК-500, при раскрытии кассеты в воздухе разлетавшиеся вокруг на 350–400 м. РБК-500 несла 550–560 сферических полукилограммовых бомбочек ШОАБ-0,5 со стальными шариками в качестве поражающих элементов. Малый калибр боеприпасов с лихвой компенсировался обширностью пораженной площади и проникновением повсюду сыплющейся начинки кассеты, секущей живую силу и огневые позиции ливнем убойных элементов – стальных 5,5-мм шариков, числом более сотни в каждой. На открытом месте каждая такая бомбочка обеспечивала на площади 60 м2 «поражение по типу А» с полным уничтожением живой силы. Пара самолетов с РБК могла полностью накрыть кишлак, а с воздуха четко просматривалась зона поражения – очерченный пыльными клубками эллипс размером 300–400 м. В улучшенном исполнении ШОАБ-0,5М силуминовые сферы начинялись калеными стальными шариками, прочными и прошибавшими даже преграды, обеспечивая поражение легкой техники и препятствий (к примеру, толстых ватных халатов «мишеней»).
Массово использовались неуправляемые ракеты (НАР) типа С-5 разных исполнений, запускавшиеся из универсальных блоков УБ-16-57 и УБ-32. Ракеты калибра 57 мм сочетали фугасное и осколочное действие, для чего в современных их исполнениях оснащались осколочной рубашкой в виде надетых на корпус стальных колец с надрезами, разлетавшимися на сотни убойных сегментов. Против живой силы – крупных и мелких банд в местах базирования моджахедов, вьючных животных в караванах – применялись также специальные ракеты С-5С со стреловидными поражающими элементами. Каждая такая ракета несла 1000 оперенных стрел размером с гвоздь, на подлете к цели выбрасываемых вперед вышибным зарядом и способных изрешетить все на 10–15 кв. м.
«Крестным отцом» нового средства поражения выступал сам Главком ВВС П.С. Кутахов, следивший за новинками вооружения и не упускавший возможности поинтересоваться эффективностью «стрелок» при реальном боевом применении. Как выяснилось, использование С-5С на самолетах оказалось даже много более результативным, чем на боевых вертолетах, у которых блоки НАР были практически повседневным оружием. Как выяснилось, такому преимуществу способствовала скорость самолетов, в разы превосходившая скорость на вертолетных полетных режимах. В итоге легкие стрелки, весившие чуть больше грамма, быстро теряли энергию и пробивную силу, оказываясь неспособными поразить цель и даже пробить одежду.