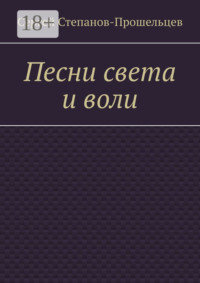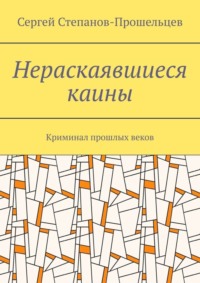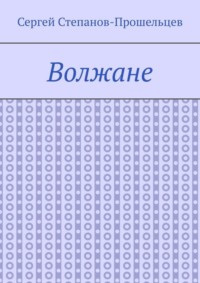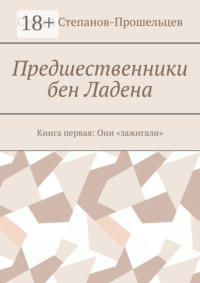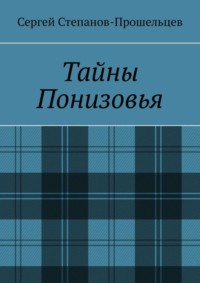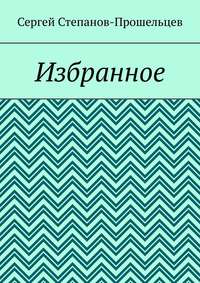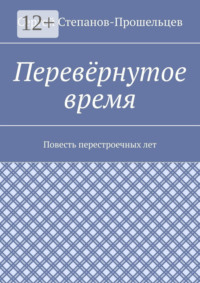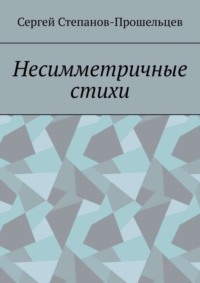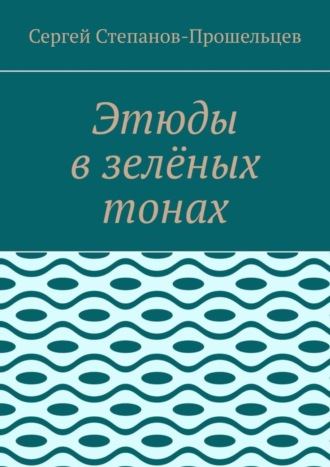
Полная версия
Этюды в зелёных тонах
ПАХНЕТ ЯБЛОКАМИ И МАЛИНОЙ
Эта миграция по весне ставит в тупик жителей других стран. Слово «дача» на другие языки попросту непереводимо. Ну как объяснить, предположим, англичанину, чем дача отличается от загородного дома, а итальянцу от виллы? Наверное, нужно сказать так:
– Мистер, сеньор, сэр, это примерно то же самое, что каторга. Там жарко, как в пекле. Там приходится работать так, что по ночам ноют кости, а днем постоянно рыдает маленькая дочурка соседа. Она плачет и оттого, что с ней никто не занимается, и она предоставлена сама себе, и оттого, что ее нещадно грызут комары-кровопийцы – эти маленькие вампиры на дачных участках почему-то всегда злющие и голодные.
А разве поймут иностранцы, что нас постоянно мучает проблема с канализацией, вечная, как призрак коммунизма?! Они, к сожалению, не ориентируются в нашем специфическом интерьере: у них и личные биотуалеты имеются. И, конечно же, иноземных буржуинов не затягивает, как в омут с головой и всеми потрохами, эта самая дача. У нас же возникает натуральная зависимость от нее – похлеще, чем алкогольная или наркотическая. Мы испытываем к ней и ненависть, и любовь одновременно. И уже давно.
Хоть палку в землю всунь…
Нижегородский край издавна славился плодородием почвы. Сигизмунд Герберштейн, немецкий дипломат и путешественник, в опубликованной в 1549 году книге «Записки о Московии», уверял, что в нижегородских землях нередки урожаи сам-20 и сам-30. То есть, собирали хлебопашцы по многу центнеров ржи и пшеницы с гектара. А уж на грядках росло всё: хоть палку всунь в землю – зазеленеет.
Как отмечалось в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона», «садоводство было широко развито в Васильском, Горбатовском, Азрамасском, Княгининском, Макарьевском уездах, а также в самом Нижнем Новгороде и вблизи его». Особенно славился своими фруктами Арзамас, высоко котировались и горбатовские вишни. Эти фрукты и ягоды доставлялись на ликеро-водочные заводы. И вина, изготовленные здесь, славились по всей России и даже отправлялись за границу.
Первым изобрел механику переработки плодово-овощной продукции фаворит Екатерины II князь Потемкин-Таврический. Он заказывал у жителей Подновья по триста кадок с солеными огурцами. Не чурались подновских даров природы известный механик Иван Кулибин, историк Михаил Погодин и даже император Александр I. Во время Великого поста огурчики с ржаным хлебом шли хорошо даже на вельможных столах.
Секрет своего труда подновцы ревниво оберегали. Дочерей выдавали только за тех, кто родился и вырос в Подновье. Секрет же подновских «напёрстков» -корнюшонов так и не разгадан. Говорят, крестьянин Федор Куранов унес его с собой в могилу. А при нём пропорции приготовления рассола ни в коем случае не нарушались: нужно, чтобы было в меру и специй, и листьев дуба, и смородины, и вишни, и укропа, и хрена. Все это помещалось затем в большую тыкву и хранилось, не теряя своих великолепных качеств, практически всю зиму. Огурчики так и хрустели на зубах.
Надо сказать, что Подновье сборы урожая превращали в огромную кондитерскую. Запах здесь стоял обалденный. Аромат варенья смешивался с ароматом яблок и слив, земляникой, крыжовником, малиной, смородиной. Есть свидетельства Владимира Короленко, что Максим Горький часто приходил сюда, чтобы вдыхать этот невообразимый запах. Встретил здесь он и свою первую, не слишком-то разделенную любовь, Ольгу Каминскую.
А лодырей будем сечь!
Другая садово-огородная история связана с уже с более-менее близким от нас временем, когда после Великой Отечественной войны в стране была разруха. Американцы перестали помогать бывшим союзникам своей безвкусной тушенкой и резиновой кашей. Солдаты наши шутили, что она заправлена вазелином или солидолом. Нужно было рассчитывать только на себя. И Сталин подписал постановление о развитии коллективного садоводства и огородничества. Наверное, первым на него откликнулся заводской комитет профсоюза ГАЗа. Просьба у профкомоцев была одна: выделить 23 гектара земли в районе деревни Малышево для организации садоводческого товарищества.
Надо сказать, что раньше автозаводцы занимали участки «самозахватом». В 1933 году, как писала многотиражная газета «Автогигант», на ГАЗе было 110 индивидуальных огородов, а в 1934-м – уже 4270. С них было собрано 2450 тонн картофеля, 215 тонн овощей. Многие получали через кассу взаимопомощи ссуды на приобретение семян, ручного инвентаря. Садоводам выделили два трактора, жерди «по 5 копеек за штуку» – большой дефицит по тому времени.
В разгар войны, в 1943 году, огородами пользовались уже свыше 20 тысяч человек. Они собрали 9 тысяч тонн картошки и овощей, много капусты, моркови, редиски, перца, лука, зелени, кабачков, баклажанов и даже дынь и арбузов. Немцы, хотя и регулярно бомбили ГАЗовские цехи и огороды, ничего не могли противопоставить людям, которые самоотверженно сражались за свой прокорм.
Но при всем при этом в бочке меда присутствовала и некоторая ложка дегтя. Во время войны и после нее многие автозаводцы продолжали работать в две смены – нужно было кормить своих домочадцев, а семьи тогда были многодетными. И этих людей, как правило, фронтовиков или их вдов, которые просто из-за элементарной физической усталости не могли выбраться на свои участки, тем не менее клеймили позором. Даже лозунги вешали: «Сразу видно: здесь работник – нерадивый огородник!». А иные наиболее кардинально настроенные граждане обещали как-нибудь поймать «лентяев» и высечь.
Сегодня это как-то неактуально.
Стоит терем-теремок…
Свои десять соток моя родственница приобрела под Богородском. Но высокий статус сельского земледельца потребовал и других затрат. Пришлось уплатить за строительство подъездной дороги, за возведение забора, за электрификацию, в конце концов, за туалет с выгребной ямой. Он получил название «Теремок».
Мечты были голубыми…
Родственнице требовалась экстренная помощь – нужно было сажать картошку. В итоге началась и моя личная дачная жизнь. Чем все это обернется, я не представлял, поскольку всю жизнь прожил в городе и с трудом отличал патиссон от баклажана.
А Ирина Васильевна, казалось, попала после долгой командировки в чужую страну с небоскребами и всеми благами цивилизации в свою родную стихию. Она не замечала ни палящего солнца, ни автомобильных «пробок», когда мы спешили на свой участок, ни хулиганствующих кровопийц, которые, как «МиГи», барражировали над участком круглые сутки под аккомпанемент своего леденящего душу писка в сопровождении объединенного лягушачьего хора.
– Мы посадим жасмин и репку, – мечтательно говорила она, убивая очередного летающего забияку. – А еще малину, смородину и облепиху, тюльпаны и гладиолусы, розы и виноград.
– Здесь климат не тот, – пытался возразить я. – Не вырастет ведь – холодно.
Но Ирину Васильевну было трудно переубедить.
Загородный синдром
В следующий свой приезд я первым делом отправился в «теремок». И тут же выскочил из него, как будто меня ошпарили кипятком. Туалет представлял собой сооружение крайне странное. Его почему-то перекосило так, что пол «уехал», а стены распирали крышу, которая грозила обрушиться в любую минуту…
Умельцы, которые возвели это сооружение, благополучно исчезли. Мы их искали две субботы и воскресенья подряд, но так и не нашли.
Постепенно выяснилось, что любая бытовая мелочь, которую в большом городе просто не замечаешь, на даче приобретает черты фатальности. Пёс Тимка, которого Ирина Васильевна привезла с собой, поймал лягушку и, возможно, ее съел. Я повез бедолагу к ветеринару. А по дороге неожиданно подумал, что мчусь к нему совершенно напрасно. Для французов лягушачьи лапки – изысканный деликатес. Видимо, в своей прошлой жизни Тимка обедал в лучших ресторанах Парижа или Лиона…
В тот же день нам едва не пришлось вызывать пожарных. Ирина Васильевна попросила меня сжечь мусор, скопившийся возле сарайчика. Я подпалил его. И что же? Ветер подул в противоположную сторону. Пламя только на метр-полтора не дотянулось до склада-хранилища нашего садового инвентаря…
И еще один случай, который произошел несколько позже. Однажды я позабыл внести в этот злополучный сарай ведро цемента, который нам презентовал сосед по участку. А ночью пошел сильный дождь. Когда мы утром с Ириной Васильевной вышли из своей темницы, то обомлели: грядки с луком, петрушкой и укропом были покрыты белой цементной коркой.
Маленькие замки
Кое-какой опыт в садоводстве и цветоводстве Ирина Васильевна со временем приобрела. Помогли и советы ландшафтных архитекторов. Оказалось, что от рациональной планировки в значительной степени зависит урожайность растений. Нужно к тому же учитывать и их взаимное влияние друг на друга. Некоторые из них, как два медведя в одной берлоге, попросту не уживаются.
Конечно, по-хорошему нужно было прежде всего позаботиться о садовом домике. Об этом, кстати, хорошо знали наши предки. Со второй половины ХIХ века вокруг Москвы и Петербурга развернулось строительство, как тогда их называли, «лесных дач». Они стали появляться и вблизи других городов, в том числе и Нижнего: на Мызе и Щелоковском хуторе, в Черноречье. Застройщиками были люди разных сословий. Некоторые дворяне-землевладельцы стали продавать их или сдавать земли в аренду. Средняя годовая цена за аренду десятины (чуть больше гектара) в начале ХХ века составляла 25 рублей.
Главной комнатой в садовом доме тех лет была столовая, сообщающаяся с пристроенной кухней или имеющая выход на задний двор, где находилась баня. Обязательно должна быть веранда, где пили чай в теплые дни. В саду на специальной площадке устраивались танцы. Самовар также ставили в беседке.
Деревянная архитектура дач придавала им сходство с маленькими замками и со сказочными теремами. Бесчисленные башенки, мансарды, мезонины, балкончики, искусная резьба на фоне зелени создавали какую-то особенную атмосферу высокой духовности. И далеко не случайно, что многие великие поэты, писатели, музыканты, ученые предпочитали жить не в многоквартирных городских домах, а именно на дачах.
Не надо кому-то подражать
Главная заповедь дачника – не надо кому-то подражать, иначе наши садовые убежища будут похожи друг на друга, как близнецы-братья. И многие строят сегодня на своих сотках домики «под старину», реставрируют старые, сохраняя прежний их облик. Это радует: такие дома передаются по наследству детям и внукам, они становятся местом, где с бывшими хозяевами общаются даже тогда, когда их не станет.
Но в то же время возникают вопросы: можно ли найти самое оптимальное место, где должен расположиться садовый домик, как лучше разместить огородные грядки, клумбы с цветами, фруктовые деревья? Практика дает целый ряд таких советов.
Домик должен располагаться в 5—6 метрах от дороги, а его окна выходить на запад и восток – в этом случае в помещении будет поддерживаться постоянная температура. Если окна выходят на север и юг, то тогда в одном месте дачник не продохнёт от жары, а в другом, наоборот, ощутит неприятные сквозняки и далеко не летнюю прохладу.
Там, на проложенных дорожках…
Важный элемент дачного интерьера – садовые дорожки. Ирина Васильевна поняла сразу: они придают дополнительную красоту. Нужно только подобрать соответствующий материал и проявить фантазию.
Вариантов мощения много. Мы применили для покрытия обычные кирпичи. Обошлись без прокладок из щебня и бетонного основания. Кто-то из знакомых предложил использовать тротуарную плитку, но тут возникают дополнительные сложности. Нужны специальная гидравлическая машинка и бензиновый вибратор, чтобы раскалывать и плотно сбивать бордюрные блоки.
Вначале мы выкопали траншею, утрамбовали её дно, а затем принялись за бордюр. Его для экономии сделали из досок, которые предварительно обработали антисептиком. Затем добавили грунт, который снова утрамбовали, и 5-сантиметровый слой песка. Сверху уложили кирпич.
А когда дорожку посыпали мелким белым песком, то на фоне зелени, если не брать во внимание домик-фургон, можно невзначай и ошибиться, приняв участок за ранчо состоятельного американца.
Но нас перещеголял сосед по дачному участку, Борис Иванович. У него дорожки сделаны из разноцветной гальки. Он смешивает её с мелко нарезанными пластиковыми бутылками, осколками керамики и стекла, скрепляя все это цементом. Выглядит очень импозантно, а затраты минимальные.
Пару слов напоследок
Успехи Ирины Васильевны в огородничестве и цветоводстве превзошли все ожидания. Она выращивает огурцы, помидоры, лук, кабачки, другие овощи, ягоды. Жаль только, что картошка мелкая, но все, как говорится, еще впереди. Опыт приходит не сразу.
Дача далека от идеала, но зато здесь такой чистый воздух, что не надышишься. А еще пахнет яблоками и малиной.
В ЦАРСТВЕ ТЕНЕЙ
Абсолютная тишина только изредка нарушаемая шелестом крыльев и писком летучих мышей, непроницаемый мрак. Фонарь высвечивает известковые наплывы на своде и стенах…
Это – пещеры неописуемо красивого Ичалковского бора.
Карст на все горазд
Площадь этого бора почти тысяча гектаров. Этот лесной массив уникален. Река здесь делает самую замысловатую свою извилину. Здесь, в Ичалках, находится островок реликтовых сосен и многочисленные карстовые провалы. –
Но деревьев-великанов все меньше и меньше. Они достаточно пожилые.Их возраст триста лет, для сосны критический. В советское время реликты безжалостно вырубались. Их древесину использовали в судостроении, и до сих пор на плаву корабли, чьи надстройки родом из Ичалок. –
В сосновом бору можно увидеть и крайне редкое растение папоротник асплению зелёную. Между прочим, кроме Нижегородской области, на Русской равнине он больше нигде не встречается. Лоси, косули и зайцы уникальностью не блещут, но такого изобилия, как здесь, на Нижегородчине больше нет (Керженский заповедник не в счёт). А там, где косули и зайцы, там, разумеется, и волки. По ночам из чащобы нередко раздается протяжный вой, пугающий туристов. –
Вздохи и стоны из глубины
Самая глубокая пещера в Ичалках Холодная (другое ее название – Ледяная). Вход в неё отвесный. Вокруг глыбы известняка, чахлые березки и липы. — —
Из ненасытной утробы земли дохнуло холодом. Тут еще тучи сгустились, туманя дорогу.
Неуютно здесь как-то, проворчал Андрей Лисин, спелеолог из Санкт-Петербурга. Но у него интерес к Ичалковскому бору двойной Андрей занимается изучением карстовых процессов. — — —
Нахлобучиваем каски, проверяем, на месте ли крючья, карабины. Обвязываемся веревками спуститься без них невозможно. Передвигаемся гуськом, парами: один страхует другого. —
Ступаю осторожно по каменной осыпи. Не стоит тревожить змей места сырые. Перешагиваю через поваленную и чудом удержавшуюся на крутом склоне березу. А ведь она может сорваться и нанести тяжелую травму. —
Мрак обволакивает слоистым войлоком. Неожиданно словно пронзает электрическим током. Даже под каской чувствую, что последние волосы встают дыбом. Страх пахнет болотным ночным цветком, сладкой жутью и тайной.
Темнота непроходима, как ичалковская чаща. Что-то чавкает под ногами наверное, грязь, которая здесь не просыхает никогда. Ледяной ветер, дующий неведомо откуда, пронизывает до костей. В воздухе, если это можно назвать воздухом, запах гнили и сырости. – —
Неожиданно из глубины слышатся какие-то вздохи и стоны. Сонное дремотное царство как будто просыпается. Вязкая жижа присасывается к тяжелым ботинкам. И на душе делается неспокойно. Дремучий, первозданный край кого угодно сведет с ума. Потаённые его глубины раскрываются далеко не всем.
Что-то липкое размазывается по щеке. Это я коснулся стены. А на ней грибы: мягкие, безглазые. Вот уж не ожидал! —
Сухой шелест сильных крыльев летучие мыши. Тут их видимо-невидимо. Пригибаемся, но они пролетают, не задевая нас. —
Пора и на Большую Землю, говорит Андрей. — –
И мы выбираемся наружу, на солнечный свет туда, где шелестит трава, где гуляет ветер, где дышится так привольно… —
Драконы добычей не делятся
Но наша экспедиция не закончена. Продираемся сквозь глухую чащу добраться до пещеры под названием Кулёва Яма – дело нелегкое. Но Андрей Лисов настолько точно выбирал направление движения, что складывалось впечатление, что он обладает безошибочным чутьем ясновидца. –
Под ногами струился туман. Было зябко. Словно мы находились на грани ночи и дня. Но слышалось беличье цоканье и сердце оттаивало. –
А между тем про Кулёву Яму ходит немало страшных легенд. Вроде бы сюда, чтобы не хоронить на кладбище христианские обычаи это запрещают, тела удавленников и утопленников. Они становились добычей хозяина Ичалковского бора, Змея Горыныча. — –
Вот и провал. Внизу чёрный водокрут, волглый воздух холодом обжигает лицо. Из разинутого рта земли вырывается влажная тьма. И вновь такое же ощущение, как при спуске в Холодную пещеру. Недаром подземный мир многие народы мира отожествляли с загробным. – —
Стены Кулёвой Ямы поросли кустарником. Прямо в лицо «стреляют» автоматными очередями стаи летучих мышей.
Такое ощущение, что мы не одни. Тянет сквозняком вероятно, пещера сообщается еще с какой-то другой подземной полостью. Но увидеть какие-то тоннели не представляется возможным. Фонари не одолевают непроницаемый мрак. –
Не видно и кулей из рогожи с мертвецами внутри. Нет и костей. Обнаружили мы только семейство сов. Но совы на Змея Горыныча совсем не похожи.
ЗАГАДКИ ОЛЕНЬЕЙ ГОРЫ
…Молнии одна за другой метили в одну и ту же точку – в большой валун, служивший в старину фундаментом земляного вала, окружавшего крепость. Казалось, это живые существа, обладающие разумом.
–– Но тучи стремительно уплывали в сторону Макарьевского монастыря. Дождь вяло клевал листву. И тут случилось невероятное. Небо внезапно осветилось. «Летающая тарелка» диск с двумя рядами иллюминаторов на бреющем полете пронеслась над Оленьей горой и скрылась, оставив много вопросов…
Старая крепость
Лысково – один из старейших городов Поволжья. Однако раньше селение находился в другом месте – западнее. Волга тогда протекала у подножья Оленьей горы, Сундовик впадал в неё, образуя высокий мыс. Здесь наши предки и построили крепость. Её валы и рвы можно увидеть и сегодня. А рядом археологи нашли остатки строений, где жили бок о бок и мордва, и славяне.
Раскопки в 1955 году позволили сделать вывод: селение было ограблено и уничтожено в 1367 году татарским ханом Булат-Темиром. Но вот когда оно возникло, археологи боялись даже заикнуться. По всем признакам, жители его были язычниками. То есть, пришли они сюда задолго до основания Городца и Нижнего Новгорода и еще до крещения Руси..
После налета Булат-Темира и была построена крепость. Наши предки выбрали самое оптимальное место. С трех сторон защищали крутые склоны мыса высотой до сорока метров, а с поля – глубокий ров. И периметр крепости впечатлял – больше двух километров. Как и у стен Нижегородского кремля. Десять башен, из которых две были проезжими, позволяли успешно сдерживать неприятеля. Центральная башня обеспечивала водой защитников крепости – от нее к колодцу вёл подземный ход. Ров был усилен «стоячим тыном» – частоколом на его дне.
Крепость на Оленьей горе впервые упоминается в летописи в 1411 году. Но она была взята отрядами болгарских и жукотинских князей, которые привели сюда претенденты на нижегородское княжество братья Данила (Даниил) и Иван Борисовичи. Московское войско было разбито и позорно бежало. А Данила-Даниил провозгласил себя князем Нижегородским. Впрочем, княжествовал он совсем недолго.
Но вскоре Оленья гора стала преподносить сюрприз за сюрпризом.
Справка
* В январе 1536 года казанское войско вторглось в нижегородские земли. Об этом узнали князья Муромский и Новгородский. Отряды русских воевод настигли захватчиков у Оленьей Горы. Обе враждующие стороны готовились к бою.Но тут случилось необъяснимое. И русичи, и казанцы вдруг «побежали в разные стороны». Что так могло испугать храбрых воителей, неизвестно. Летописцы это не комментировали.
– * Другой малопонятный факт. Сразу же после этого деревня, которая селилась рядом с крепостью, чтобы в случае необходимости укрыться в ней, поменяла свою дислокацию. Её жители, бросив свои дома, обосновались за рекой Сундовик там, где сейчас современный город Лысково. Захирела и сама крепость. Вооружение с башен было снято. Вскоре оттуда ушел и гарнизон.
(ЦАНО, фонд боярина Морозова). * Загадки продолжались. В семнадцатом веке Лысково было пожаловано дядьке царя Борису Ивановичу Морозову. Поскольку дорога из Нижнего Новгорода по-прежнему проходила через Оленью гору, он решил отремонтировать крепость. А потом вдруг передумал и дал такие распоряжения своим приказчикам: «Писали вы ко мне, что по моему указу на Оленье горе острогу смотрили, и острог де весь исподи погнил и во многих местах повалился… А вы де велели привезть по бревну трех сажен, дабы острог делать. И как к вам ся моя грамота придет, и вам бы не спешить делать ево, погодите»
* Наконец, еще одна великая тайна. Волга внезапно изменила свое русло и стала приближаться к Макарьевскому монастырю. Возникла даже опасность, что он будет затоплен. Но Волга дальше не наступала.
Загадочность местности придаёт и само название горы. Краевед Владимир Щанов считает, что Оленья гора была святилищем переселенцев-язычников, где они приносили в жертву своим божествам оленей.
По другой версии, гору назвали так в честь жены первого князя Нижегородского Константина Олены. Третья версия – название заимствовано у древних германцев. «Елленд» на их языке – лось. То есть Оленью гору правильнее бы назвать Лосьей.
Владимир Щанов трижды видел здесь НЛО. До сих пор у подножия горы бьют родники с большим содержанием серебра. Откуда оно тут взялось?
Неподалеку от Оленьей горы, в деревне Юркино, приобрела дачу известная нижегородская предпринимательница Валентина Изотова. Она построила здесь на свои деньги часовню и не устает поражаться загадкам этой местности. Особый восторг вызывают у нее облака – таких она нигде больше не видела.
Однажды ночью вместе с собакой Валентина Владимировна отправилась на Оленью гору. Хотелось увидеть НЛО и его сфотографировать. Но вскоре испытала необъяснимый страх. Забеспокоилась и собака, стала выть, как воют на луну волки. Пришлось вернуться.
Но самое любопытное, что зимой температура на Оленьей горе резко отличается от всей округи. Здесь столбик термометра может опуститься до минус сорока градусов, когда в округе минус пятнадцать.
Белый туман
Над Оленьей горой стелился странно пенящийся белый туман. И неожиданно появилось ощущение, что Марина и Тим не одни, что есть еще кто-то третий. Но кто?
И они увидели то, ради чего пришли сюда. Бледное водянистое пятно, вскормленное лучами луны, отделилось от кромки тумана и превратилось в яркий источник света. Увязая в плотном, маслянистом сумраке, этот свет вздувался пузырем, как вода, случайно оказавшаяся в цистерне с нефтью…
Это означало, что студенты Марина Глушкова и Тимофей Корин увидели НЛО, которые над Оленьей горой появляются регулярно. Но что они здесь ищут?
Донесения земского исправника
26 октября 1849 года лысковский земский исправник Конобеев направил в Министерство внутренних делдокладную записку—писал он, —В конце своего донесения Конобеев добавлял (ЦАНО, фонд «Лысково») . «Вчера, часов в девять вечера, в середине неба, над Оленьей горой, появилось огненное пятно величиной, по-видимому, 20—30 сажен. Так было в течение 5 минут, и я, бывший с оказией рядом, приказал ездовому стегать лошадей, чтобы оказаться там, где всё это происходило. Но дорожный тракт преграждали завалы из упавших деревьев (накануне была сильная гроза с градобитием), и мы замешкались. Пятно же тем временем стало склоняться к северо-западу и приняло причудливую продолговатую форму. Вскоре оно исчезло». : «Такие световые столбы местные жители видят не в первый раз .
Вторая докладная записка Конобеева датирована маем 1850 года. В ней речь шла о ». По его словам, шары появлялись с севера—заключал свое послание Конобеев— (там же) «светящихся шарах . «Трудно считать таинственные шары болидами или другими природными объектами астрономии, , ибо слишком необычны и рассчитаны их движения, как будто они управляемы» .