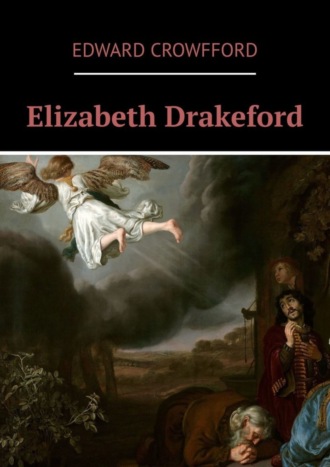
Полная версия
Elizabeth Drakeford
Скромность этой девушки, не побоюсь ни умолчать – заслуга таинственности, скрытности, вульгарных изощрений и скорбящих призраков между робеющими сердцами безликих любовников.
Когда мне исполнилось 34 года я соприкасался с одиночеством играя в бильярд по выходным, исключая важные встречи с друзьями, отправляя письма с отказами на приезд на бал, в том числе полностью посветил себя книгам в библиотеке, в которой мы так часто проводим своё время меж краеугольными символами знаний. Книги, которыми владеет наша семья богаты фолиантами со всех концов света; гримуары, библии, рукописи старинных книг, мемуары, весьма редкие в своем роде инкунабулы, первые издания Шекспира, Гёте, Данте, старонемецкая литература, что богата своими изысками, ветхие рукописи на Латыни, многообразие различных картографий, угнетающие пьесы, бархатные мелодии поэтической виолончели и затуманенные философские рассуждения, ежедневно окутывали романтическими пристрастиями мертвенно-бледной души. По ночам я лавировал, сквозь фабульные знания магических строф, покрытых таинственностью, старинных мыслей. Лишь на мгновение изувечивая боль от заблудшего мира, я крайне неловко всматривался в лунное обаяние сияющих созерцаний, пристально блуждая насквозь пропитанной темнотой библиотеки, под лунным светом изучал основы мироздания. Темнота внутри зажигала пламенные осколки одиночества, возвышая влюбленную натуру к эстетике прекрасного, что таило в себе стихи великих поэтов давно минувших столетий. Крайне редко я мог искушать боль одинокими мечтаниями, давно минувших воспоминаний, режущих плоть, обжигая холодную тень.
Мне пришло письмо от француженки, гордостью которой стало бьющиеся сердце внутри горячего нрава. Она жила на Ковент-Гарден, что в восточной части Вест-Энда между Сент-Мартинс и Друди-лейн. В нем леди Элен-Мари Фурнье просила меня приехать к ней в Лондон, в надежде провести последние увядающие годы, сохранившиеся только в памяти. Мы были знакомы с того момента, как в 1897 году королева Виктория отпраздновала свой бриллиантовой юбилей – sixty years of the reign. «Никто так не пользовался почетом и уважением, как Королева Виктория», – писала она, находясь в мрачной, но глубинной Шотландии в последние годы своей жизни перед тем, как уехать в Лондон.
Недолго думая, в порывах обезумевшего возлюбленного, я принял решение бросить монотонную иллюзию одиночества, свергнув обломки очернённой души, влюбленности, зачарованной обольщением, красотою в юной девушке. До сих пор помню её первое письмо, мне в Норфолк, когда от рассказа местных жителей о призраке обезглавленной супруге Генриха VIII, Анны Болей у меня холодело тело и бросало в дрожь, что послужило причиной моего скорого увлечения ледяным вином. «Бедный молодой гарсон», – говорил мне чересчур скромный владелец поместья, которого я приобщил к нормам морали из-за того, что скупой мещанин отказывался называть рецепт такого сладкого, вкусного вина, что сколько бы вы не пьянели, вы все ровно находитесь во власти своего рассудка. – Ледяное вино сэр, довольно редкий имеет вкус. Его тонкая сладкая грань, что усиливает желание вкусовых рецепторов вкушать мелодии райского сада извечно уводит господ от сумеречного покоя, отдавая сладкогласием виноградной лозы; струны арф ангельским пением воодушевляют сердце покрывая ледяными скульптурами из холодных звёзд тело, согревая душу музыкальными отговорками жителей небесного царства. «Как же не влюбиться», – повторял я, когда ледяная прохлада дуновением обжигала разум.
Неизвестная дама доставила мне ответ из Лондона, что покорило моё холодное сердце, и остепенило мрак внутри моего тела, флюидами. Незнакомка прошла ко мне в покои, словно химера по обожжённому стеклу, и пока я нежно видел сновидения, оставила письмо на столе, где помимо Мальтийского еврея и Замка Отранто находились бессвязная стопка фальшивых стихов неизвестных авторов, что иной раз с полным хладнокровием окутывает беспамятство и болезнь века серой, тернистой тоской.
Утром ноябрьского снега не было, и я проснулся от томления и боли, что так и испытываю по сей день. Зачарованный мир подарил мне очередное прекрасное настроение, ведь в скором времени я был бы вынужден покинуть Норфолк, прежде чем остановиться в Рочестере, расположенном в графстве Кент. Энтузиазм или скорее всего простое, но двуликое воодушевление, что так присуще, когда мы получаем желанное, одушевляет на столько неописуемо, что невообразимо и представить моё состояние. Я крайне удивлён, что могу рассчитывать на вашу признательность, дорогая моя, нет вы не подумайте, я всегда в глубине души это знал, скупая ментальность чувств, что бросает в дрожь лишь я начинаю любоваться вами, цветущей, жизнерадостной, на этом полуживом, безликом портрете.
– Моя дорогая, вы, наверное, помните моменты, когда мы посетили этот приморский город. Вы так же должны припоминать о многокрылой судьбе, что связала нас, так умерщвлено, как не связывает нить время, отведенное нам, на краю мучений. Зачастую Рочестер омрачал мои мысли, и в памяти воцаряются исторические ценности и архитектурная бесконечность Английской утонченности, аристократичности, элегантности, и изысканность навевают простолюдину неудержимую страсть и комильфотность, околдовав необыкновенной художественностью, и живописностью. – «Англия, мой друг, это страна, где сказка творится наяву». – однажды шёпотом пропели вы. – Я промолчал. За что виню себя по сей день. Могли бы мы вообразить, что судьба переплетает сердца, поэтичными строфами мелодичного голоса, сладкозвучиями которых я впитывал художественность очертаний, пленительной Англии, и обворожительной девушки, соприкасаясь с живописными идеалами вечности.
По мимо замка, что стоит на восточном берегу реки Медуэй, в Рочестере находится Собор Христа и Девы Марии. Готическая основа и Норманнский стиль придают безумные отголоски страха и мрачноватого великолепия, блуждающих призраков и роскошь архаичных теней; Смертные крылья, витающие на месте, где когда-то сам господь бог превознёс заколдованное веками время, оно не властно над окрыленной эпохой. «Словно небесный творец изящно обворожил зачарованные фасады». А что в Англии не красота – то чарующее богатство времени.
Я долго не мог взять и открыть запечатанный конверт. Страх перед тем, что когда-то называли бесконечностью внушал мне то, что любовь отравлена. Переживал за моральное действующее лицо, то есть за себя. Ведь как вы прекрасно знаете, и о чём так хорошо осведомлены, так это о моей проницательности. Я глупый и наивный поклонник женского обаяния. Но сейчас прошло уж столько лет, что глупо писать о том, как нелегка моя душераздирающая, испуганная, рвущаяся наружу тоска. И ваша проникновенность, оставляя меня за гранью сумасшествия. Вы не приуменьшили ничего, даже превалировать ни стали о том, как хорошо я воспитан, довольно-таки обыденный и нескончаемо замкнутый, но умеющий тонко любить нежные, стихотворные пейзажи души. Бесконечно обоготворяющие проведенное время, держа вашу ручку, тонкую и нежную, теряю ясность сознания, лишь взглянув в ваши глаза обожествляю океаны лазурного берега. Больше всего боялся, что вы напишите, что , испуская последнюю скорбящую душу на ваших любовников. И дрожащими руками переминал письмо пока ночь не открыла мне тайну одиночества. Сумерки спустились с небес, словно броккенский призрак, отражая сияние моих слёз, и я удосужился открыть и прочесть заснеженные, волнующие мою бренную душу метафоры. я вам больше не нужен и Вы навечно охладели ко мне
lettre française Прекрасное умение англичан писать остекленело на французах; заживо омертвлённые послания, намекающие на глубочайшую боль и не менее углубленную нравственность – это кладоискатель потерянного рая, оставленный ценителям раннего каллиграфического почерка готического письма. Своеобразие * подобно рыцарскому роману, о вечной тайне любви, порошенными цветами могильные тропы, к той, чья обольстительная душа девственно молит о сладостных мгновениях влюбленной звёзды, морскими глубинами сладкозвучного шума тихой волны, плавно качая коралловых медуз по водной глади океана.
Ваш покорный слуга не заметил, как прошёл день, и что мой паж откровенно переживал за мое молчание, как будто меня умертвили, схоронив под ивами, наполнив мое тело обугленными стихами Бернса, Байрона, Мильтона, Голдсмита, сжигая их при мне… Вновь перечитал ваше творение. Вы прозаик: , – так вы подчеркнули пение серафимов в царстве Аидовом. «Чистосердечные помыслы английской литературы сквозь тончайшую скорбь, витающих состраданий, между огнецветными закатами, что приносят милосердию улыбку на изнуренном, уставшем лице поэтической натуры, изувеченной от переутомления ослабленных мгновений натянутой судьбы». Как мне быть, когда мы соприкоснёмся взглядом? Мягкосердечные скрижали помутнили мой разум, я ослеп, обескровлен, лишь дуновение ветра под серебряные звуки слёз, витающих мелодий нашептывали мне о том, что никто кроме тебя мне не говорил о восхваление небесной красоты поэтическими строфами, обжигая свитки священнослужителей, страдающих от неизгладимой боли святострасти, пучинной стрелы Купидона. «Романтика в глубинах сердца»
– Сэр, Томас Рэдклифф», – произнёс паж, удрученно смотря мне в глаза. Я вынужден настоять на том, чтобы вы поужинали сэр, – проговорил он. Вы не ели с самого утра. Меня начинает беспокоить ваше состояние, ведь вы никогда прежде не были настолько молчаливым, как сейчас. Вы то и делаете, что читаете, да молчите, – испуганно выдавив из себя эти слова, паж откровенно дал понять, что, блуждая в потемках содержания можно отчаянно сойти с ума и отречься от многих лиц.
– Прости, Жан-Люсьен, мне надо побыть одному, – проговорил я.
– Сэр, – я вынужден простить вас под давлением того, что меня угнетает ни только совесть, но и очень сильно грызёт тоска. Вы взяли меня на обучение. Дали слово моему честному отцу, вашему другу. Я хочу отплатить вам за столь щедрую помощь, оказанную моей семье. «Мы в нелегком положении, отец разорён на столько, на сколько может быть разорён чистосердечный человек, не укравший ни единого фартинга», – произнёс паж, пристально посмотрев на догорающие угли в камине. Я готов на всё, чтобы отдать свою жизнь за то, чтобы родительский дом жил, процветал, и всегда благоприятно содержался, в чистоте, добропорядочными людьми, помогающими моему отцу в его непростых делах, в чертогах пустоши Английских земель. Вы благородный человек с добрым сердцем, сэр Рэдклифф, я долгое время служу вам, и настолько же уверен в вашей чести, в вашей добропорядочности, насколько же мой отец верит в мою чистосердечность и искренность, перед ликами судьбы. Я был воспитан в благородной семье, и на сколько, насколько же и вы осведомлен о моём покровительстве, о мягкосердечных услужениях, воспитанных на сострадании и милосердии.
– Я видно слишком эмоциональный, что ваше сладкоголосье, молодой человек, перебило тяготу мрачных дум. Вы безусловно правы, я действительно вас понимаю, – с минуту стоял отстраненным от всего, даже фундаментальный мир меня не интересовал так, как я погрузился в мечтания, ах этот сладкий голос свободного творения мысли. Но удручен я тем, что вновь покорился даме, который раз моё сердце зажглось ярким пламенем.
В прискорбном состоянии паж остался в комнате, наблюдая за тем, чтобы я все же поел. Не смотрю ли я на доброго человека, помогающего мне, и иногда подчеркивающего мою натуру, моральную оболочку? На человека, который стал мне другом за время, проведенное в заточении собственных мыслей? Я хотел открыть кому-нибудь душу, раскрыть утаившуюся грусть погруженных затмений наивного художника. Меня влекла мечта – блаженная любовь, отсекающая крылья мелодичной влюблённости, божественными ликами, преклоняясь перед алыми рассветами. Темно-коралловый закат, обвенчанный Рафаэливыми крыльями бархатных переплетений сладострастия, исцелял прикосновением женственной кожи, девственно-ласкательных рук. Я мечтал о возвышенной любви, вдохнув ароматный бриз свежего, морского воздуха, положив на грудь лишь её письмо, прочувствовав сладостность искушений, в надежде на то, что она стала частью пронизывающей души сладкозвучных грёз.
Даже в таких замкнутых одеяниях, как любовь он находил искренность и честность, что я ценю большего всего на свете. «Aeternus amor – aeterna morte» *. Ядовитая исповедь опустошенного человека, ещё столь юного, за исключением того, что время не щадит никого, ибо и даже смерть, рано или поздно вознесет на алтарь обнаженный, призрачный лик девственной любви, неестественными пороками, умертвив телесный облик человеческого сострадания.
Не знаю сколько ещё часов мне пришлось перечитывать гротескную мечту, и завуалированность грустной повседневности, но на следующий день я решил сообщить, что, не смотря на зимнюю сказку за окнами, я желаю видеть её глаза и ощущать нежную кожу своей рукой; – «если вы обещает дождаться меня, то я в скором времени буду у ворот вашего поместья. Буду ждать олицетворения ангела на земле покровителя Святого Георгия. Молить бога напевая псалмы, не более и ни менее, как обычный влюбленный, который очень хочет бороться за право взглянуть на вас, как подобает рыцарю этого серого века „…“ И внезапная страсть, возникшая после долгих лет – это тягостная мука, томящаяся внутри.» Я многое утаил, дорогой читатель, чтобы вы не подумали, что я сумасшедший, глупый и наивный влюбленный, которому не подобает скрывать своих чувств к даме, ибо влюбленность есть тягостные муки скорбящей, преданностью которой я был отвергнут, омертвлён, лишь познав правдивость ложный побуждений наивысших чувств. И более того я лишён хоть какого-то дара красноречия, всему виной английская тоска, простите. Я закончил письмо, стихотворением моего детства, ведь должно же быть что-то по истине прекраснее, чем грустный дождь в сердце влюбленного, таящий в себе мантию резких воспоминаний. И если мир так жесток ко мне, то пусть он будет напоминать вам, что среди адского мучения, есть чудесные цветы, которые хранят воспоминания прекрасного:
Любимая! меж всех уныний,
Что вкруг меня сбирает Рок
(О, грустный путь, что средь полыни
Вовек не расцветёт цветок),
Я всё ж душой не одинок:
Мысль о тебе творит в пустыне,
Эдем, в котором мир – глубок.
Так! Память о тебе – и в горе
Как некий остров меж зыбей,
Волшебный остров в бурном море,
В пучине той, что на просторе
Бушуют волны всех сильней, —
Всё ж небо с благостью, во взоре
На остров льёт поток лучей.
(Эдгар Алан По)
II
В ночной тьме, рассуждая о красотах мира, моё сердце сладкозвучно лавировало стихами сквозь мрак, напевая мелодичную песнь о влюбленных небожителях в эфире из блаженства, бесподобность которых не сравнится с влюбленностью чарующих забвений, но моя любовь очаровывала крылами огнецвета пылающих в нежно-голубых глаз.
Я родился в Карлайке, что на границе между Англией и Шотландией, и благородно воспою этот неземной край, где был рождён мрачный силуэт, вводящий в забвение искушенную публику. Воспитан в этих омраченных местах. Моё тоскливое, мертвое детство проходило здесь, неподалеку от мест, где архиепископ « проклял город, после отъезда Папы Римского, и назвал его самым беспорядочным и беззаконным воплощением ада на земле. И до сих пор отголоски легенды ходит по трактирам, пугая народ более новыми и новыми подробностями. Передавая из поколения в поколение, побуждая поборников ревностно отстаивать правдоподобность истории маленького городка. Эту легенду мне удалось услышать в Лондоне от одно странствующего монаха, который исповедовал викторианскую мораль, прививая путников разговорами о целеустремленности, нравственности и низвержении голоса господня. Как мне поведал монах: в его семье царил патриархальный порядок, вне всяких сомнений послужившему в его воспитании главным проповедником – «привитые мне чувства долга и трудолюбия, любви к Англии и королеве Виктории хватило на то, чтобы скитаться по британскому острову в поисках пищи и жилья; на то я мученик господний, его вечный слуга. И жизнь данная мне господом исцелит грешные мысли мои. Мы все странники на этой земле. Паломники и пилигримы. Мы все ищем свою истину в жизни, но ни каждый может её узреть», – говорил он. Порой время от времени я получал в Лондоне письма от старых друзей, и кто-то из джентльменов упоминал, что старый монах нашёл свою могилу, уснув вечным сном, представ перед божьим ликом в одеяниях великомученика. Gavin Dunbar» о проклятии на староанглийском языке
Я никогда не проводил вечера в раздумьях. Я никогда не смотрел на небеса с такой тонкостью ледяных колыбель, забывая о том, что скоро настанет момент, и я застыну перед идеалом, остепенюсь перед красотою необычайно-ласкающего взгляда, дамы, моего покоренного сердца. Её красота – это вечное сплетение ледяного пламени, мерцающих, холодных звёзд, отражающих одиночество, томление обезумевших книг, незамысловатые аргументы вне иных вселенных, заточенных в кружевах Небесного Ангела. Облик невинной, девственной души притягательного языка, неподвластный ни лирическим поэтам, ни мыслителям прошлого, словно лепестки лилии белоснежно улыбаются полуденному солнцу в зимнем саду. Я отдал бы всё ради того, чтобы обрести вечный покой влюбленных глаз, и если бы судьба соблаговолила, то невероятно-обезумевшей прытью прожил был полумертвую жизнь, лишь бы утонуть в лабиринте сновидений. С моей единственной и вечной любовью. Никогда не испытывал такого влечения, всегда предпочитал одиночество. Во всяком случае дорожил временем, которое за долгие годы было нравственно отдано службе её величеству, в Англии, чтобы просто-напросто побыть в уединении со своими мыслями, далеко от мрачности военных действий.
– Сэр, – повозка готова, кони запряжены и готовы к дальнейшей дороге, – сказал кучер, отвернувшись посмотреть сколько снега выпало за последнюю ночь.
– Хорошо, – ответил я.
Рассматривая пейзаж, углубляясь в светлые тени старого города, в мою душу навеяла мысль о том, что, как знать, может я больше не вернусь сюда, ведь кто знает приведет ли меня дорога сюда ещё хоть раз…
В мое кратковременное детство, не отпускающее меня из воспоминаний, в котором я рос в обыкновенной семье, что не позволяла мне учиться в престижных закрытых школах для мальчиков. После долгих лет зачарованной жизни, мне, как и любому юноше хотелось что-то особенное, то что было бы обезумленным, сверхъестественным, поэтому вопреки родительскому слову выдать меня в медицинский колледж, я выбрал фантом душевных бальзамов, развивающихся по осколкам пергамента, и поступил в художественный колледж, настолько же всеобъемлющего характера, настолько и омрачающего мой ум, заключая в себе художественность поэзии лирических портретов. И лишь однажды мои родители написали мне небольшое письмо, в котором было отчётливо видна скорбная нота отчаяния:
«Дорогой Томас, ты единственный наш сын, потерявший веру в божественные небеса…
С силой рока возлюбив тебя младенцем, мы питали твою душу любовь, заботой, даруя всё-то, что могли тебе дать. Ты, выбрав собственную дорогу, осквернено простился с нами в мучения тщеславия, и таланта, из-под божьей святыни – колыбель с ледяными созвездиями, желание быть прощенным господом, ниспадшим тебе Ангела-хранителя, бережливого, и робкого. Твой талан – рука Господа, но мастерская кисть принадлежит тебе, тебе, мой юный мальчик, с пламенной душой, и чистосердечием; Я люблю тебя, взамен лишь молю, приклонись на моей могиле, когда крылья демонов – человека, вновь придадут существующие крики природы, церковнослужителей и поборников, ибо вышеизложенное есть божественная сила в твоих картинах, низложив мистическую скрижаль, иррациональным мышлением, с самого детства. Ночь замирает в тишине одурманенной легенды». Только тогда я ощутил некую возложенную на меня силу, что преследовала перламутровыми рассветами, в отчаянии насущного дня.
Пока кучер остановился, чтобы посмотреть все ли в порядке с дорогой, я вновь погрузился в свои мысли о том, что же ждёт меня там, где юная любовь пылает, как алый закат. Je suis prêt à mourir pour l’amour, pour que tu sois heureuse et que tu aimes combien je t’aime, – Сумерки независимо вились над моей заблудшей тоской. Я шёл и мечтал, шёл и тосковал, любил и корил за верность, и судьбу. Истощенно-мелькавшего силуэта жизни. – Un nouveau roman pourrait-il nous relier un jour? Pour toujours garder en mémoire les moments timides de passion qui nous ont attirés? Amor est incessus mihi rabidus, – я безумец.
Готические арки, узкие колонны и стрельчатые витражи окон. Особенная игра света и тени. Мерцающие холодные звезды, и блуждающие краски таинственной и мрачной архитектуры, держащие душу в оцепенении, приковывая глаза к истинно-мрачной красоте тех мыслей, которые внушают нам образ необыкновенного, того чьему взору невиден лик смерти, Я шёл вдоль густого темного леса, что манил мой разум, играя воспоминаниями, тревожа память сумрачными оттенками вечности, освобождая самоцветные грёзы внутри цветущим бальзамами, безумного влюбленного, чья любовь питалась полумглистыми сводами пепельного каштана, довольно редкого вида, прорастающего в английских чертогах. и посему воля сильнее, чем ангел, выкованный в одиночестве, в облике тени, отрёкшийся от злодеяний бога.
Осознавая, что к вечеру завтрашнего для буду у той, чей облик обворожил околдованными чертами живописного лица, нескончаемым потоком женской души, ощутив дуновение приятных ароматов эфирного бальзама, подле облика нежно-ласкающих слух стихотворений, написанных девичьей рукой на неземном языке. Несколько раз я смотрел на небо – оно чудесно. Озарено звёздами. Всё небо покрыто яркими огнями, тающими на руках людей в дали увидевших блуждающие огоньки, что так часто находят в созвездиях свой приют, из ледяного дома и лунного отражения красных масок блаженной смерти. Англия – полна сказок. Легенды насыщают глаза яркими блестками, и многокрылый серафим спускается к ребенку, укутывая малыша в мягкий, сказочный сон.
– Когда-то, – в полутьме, раздался голос, что немного испугал меня, когда-то я тоже так, стремительно помчался за душераздирающим пламенем в сердце – адским огнем внутри, что высекает мелодичный, ласкающий слух бархата, сладкосердечного образа, лика возлюбленной. Смотря на те самые звёзды, на которые смотрите вы, мистер Рэдклифф. Это было сказочное время. Но любовь, что влекла меня угасла: покуда я сам узник призрачного пения луны. ««И лишь молвит заветный голос ангела, что влечет мою любовь, я вознесу влюбленную звезду» – узнаете, поэтическую строфу, спросил он. – узнаете лирическую гамму, влекущую за собой нежность, к возлюбленной. «Отыскав венец судьбы у подножья скал – сладкозвучных слёз, я влюбленность пронесу, через пропасть мрачных грёз» – эти утонченные стихи, молодого поэта, скорбью прошли сквозь поэтическую гамму окровавленных крыльев, но юный возлюбленный, сам не догадывается, что же ждёт его душу; легкосердечность, и маловидное личико, когда откроется таинственная мгла послевкусия, перед ночным дождём, и раскатами грома, в смертельной схватке с самой смертью, на обреченном, легкомысленном тщеславии возлюбленной, но темнота художника лишь изобилие страсти, сколь помыслы ваши чисты, столь надменна кровь, застывшая на мольберте вечности, – произнёс голос, незнакомца. Мы ещё встретимся с вами добрый друг, но вы не узнаете меня. Вы не узнаете меня, но прислушаетесь к зову сердца. Увы лишь оно зорко перед чувствами смерти. И лишь оно способно наградить мрачную душу – любовью, что пронесётся через кукольный смех на картинах омертвленной души.
Да, моя дорогая Элеонора, повесть о той, чьё имя я до сих пор скрываю, несёт в себе много тайн и загадок, но я хочу быть честен с вами, о сердце от сердца той, кого я по истине любил; в зимнем саду, где есть всё чтобы отвлечься от шума адского крика, что невыносимо меня терзает, что губит меня пленяя губами цвета крови, напоминая о том, что когда-то здесь мы проводили самые счастливые времена, до тех пор, пока в одну ночь на этом месте произошло самоубийство. Это было в те времена, когда вы были склоны посещать Французский карнавал, и не могли радовать нас своей очаровательной улыбкой. Однако, вы вольны знать о многокрылых изгибах, силуэтного блеска, хранимые в самом сердце глубинных сокровищ, кораллового жемчуга, с ласкающим прозрачные волны морских огней.

