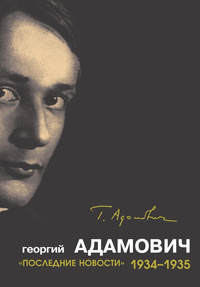Полная версия
«Последние новости». 1936–1940
Еще одно замечание в подтверждение тех же мыслей: если эрос – в высшем, очищенном смысле слова – есть основа и оправдание всякого творчества, то анти-эротизм, замыкание Сирина в самом себе, безысходность его тоже наводят на тревожные догадки. Ему будто ни до чего нет дела. Он сам себя питает, сам в себя обращен. Он, скорее, бредит, чем думает; скорее, видит сны, чем вглядывается в то, что его окружает… Легко было бы принять одну из готовых, всем доступных, наставительных поз и преподать стереотипный совет: ну, скажем, побольше любви или побольше работы над собой! Но советы не доходят до адресатов, а до такого адресата, как Сирин, тем более. Он на очень страшном пути, а помочь себе может только сам, если хочет этого… Отчаянием все-таки жить нельзя, и даже в изощреннейшей литературе нет от него убежища.
«Современные записки», кн. 60-Я. Часть литературная
Шестидесятая книга.
О «Современных записках» все уже было сказано, и сказано не раз: если бы вновь предаться размышлениям о «культурной роли», о «продолжении традиций», о «верности долгу», пришлось бы повторить то, что каждый с полуслова знает. Но нельзя все-таки пропустить цифру «шестьдесят» на обложке, ничем ее не отметив.
Русской эмиграции пришлось на недолгом своем веку выслушать много горьких обличений. О том, что доходит оттуда, из России, не стоит говорить: речи официальные известны заранее и значения не имеют, а о неофициальных думах мы можем только гадать и догадываться. Но в добровольных энтузиастах-прокурорах нет недостатка и здесь, в нашей собственной среде. Насколько, в чем и с какой точки зрения они правы – вопрос сложный, решить который следует предоставить «будущему историку». Можно, однако, надеяться, что он, этот «историк», окажется не вполне согласен со здешними присяжными обличителями, да, кстати, и поставит под сомнение уместность и внутреннюю оправданность странного их рвения. Наша эмиграция – не какое-нибудь чудо, конечно. У нее много пороков, – кто это отрицает? Но кое-что она все-таки сделала и делает до сих пор и все-таки проявила и проявляет до сих пор больше духовной стойкости и силы, чем можно было ждать… Зазнайство, бахвальство эмиграции было бы ужасно. Но втаптывание ее в грязь (притом радостное, счастливое, с приятной улыбкой на лице) еще более ужасно по слепой жестокости к тем, кто здесь в небывало трудных условиях поддерживает понятие творчества. Помимо того, оно несправедливо – и вот это-то и доказывает цифра «шестьдесят» на обложке «Современных записок». Каждому из нас приходилось, может быть, мысленно спорить с редакцией журнала, сетовать на то, досадовать на это, но каждый, из простой добросовестности, должен признать, что это один из лучших журналов за все время существования русской печати. Не может быть разногласий на этот счет. И дело тут вовсе не в качестве отдельных вещей, помещенных в журнале, а в общем его духе, в общем тоне – широком, свободном и достойном. Многое изменилось в «Современных записках» за время их существования. Но этот их признак остался.
Изменился, например, список имен: меньше «маститых», больше молодых. Не думаю, чтобы произошло это в результате той воображаемой борьбы, о которой в последнее время было столько разговоров. Медленное, постепенное обновление состава участников журнала неизбежно, естественно и законно.
Из «мастистых» в новой книжке «Современных записок» – один Борис Зайцев, давший прелестный отрывок из романа, озаглавленный «Людиново».
Помещичья, дворянская литература? Да, пожалуй. Картина исчезнувшего, умершего быта? Да. Воспоминания о том, что было и не вернется? Да. Да. Да!.. Но не все ли это равно, если художник не в силах сквозь прошлое говорить о настоящем, о постоянном, если он взлетает над этой усадебной лирикой и оживает в ней настолько, что находит язык, всем понятный, для всех убедительный? Не так давно в советской печати была помещена заметка какой-то комсомолки-текстильщицы о том, что ей не по душе новая беллетристика, а вот «Анну Каренину» она читала со слезами, «волнуясь и мучаясь за нее». Комментариев московские газеты не дали. А ведь если это правда, если таких комсомолок много, если признание одной из них характерно для всех, то для нас это торжество из торжеств, ибо доказывает то самое, что мы (обобщаю здесь «мы», конечно, до общей противокоммунистической позиции в представлениях о культуре и творчестве) утверждаем как важнейшее свое утверждение, а именно, что «человек не есть то, что он ест». Если Анна Каренина, барыня и белоручка, может оказаться сестрой по несчастью какой-нибудь фабричной работницы, да еще с «партийным стажем», то больше не о чем говорить, – и, кстати, тот вопрос, который с язвительной прозорливостью был поднят Жюльеном Бенда на прошлогоднем парижском конгрессе «по защите культуры», вопрос о пределах влияния труда на психику и о том, навеки ли веков написана «Федра» или предназначена только для скучающих, с жиру бесящихся бездельников, вопрос этот оказывается разрешенным! Не буду увлекаться и отвлекаться – тема огромная – и вернусь к Зайцеву. В «Людинове» он рассказывает о радостях и тревогах десятилетнего мальчика, о переезде его с родителями из одного поселка в другой, о той тихой, мирной и скромно-привольной жизни, какую вели в России, до «страшных лет» ее, многие семьи со средним достатком и средним общественном положением. Патриархальное чувство благополучия разлито во всем повествовании, несмотря на то что уже начинаются поджоги, идет смутное, глухое брожение, и вообще вспыхивают «зарницы», предвестницы будущих гроз… Казалось бы, все это – дело далекое. Зайцев нисколько не стилизует истории под современность, напротив, он восстанавливает прошлое во всем бытовом своеобразии, не обеляя и не очерняя его. Но этот рассказ о детстве так правдив и тонок, что временные и пространственные препятствия исчезают, и все то, о чем говорит и думает маленький Глеб, становится подлинной реальностью. Судя по напечатанным главам, роман должен стать одной из лучших вещей Зайцева. Этот прирожденный акварелист иногда насиловал себя, – или уходил в такие области, где его чистый и хрупкий дар начинал тускнеть. Здесь, в «Людинове», ему все соответствует, и мир, воспринятый сквозь «дымку» детского, непрерывного, мечтательно-восторженного удивления, передан с пленительной точностью, с неподдельным поэтическим чувством. Даже тысячу раз использованное положение – догадки ребенка о розни между отцом и матерью – Зайцев сумел разработать так, будто мы сталкиваемся с этой драмой в первый раз.
Н. Берберова гораздо сильнее, нежели Зайцев, озабочена формальной стороной творчества, и по-своему права: каждое поколение ищет новизны – и прежде всего новизны выражения. В этом отношении наши молодые писатели во всяком случае консервативнее, чем были их непосредственные предшественники, и тем не приходится досадовать на них за отступничество, сравнительно робкое и осторожное.
Если бы искать, кто оказал на Берберову непосредственное влияние, надо было бы назвать два имени, сопоставление которых само по себе парадоксально: Достоевский и Сирин… Конечно, я не сравниваю эти два имени, что было бы до последней степени нелепо, не привожу никаких параллелей, а только называю писателей, которых Берберова, по-видимому, читала особенно внимательно. Влияние Достоевского сильнее внутренне и сказывается в постоянно-катастрофической атмосфере берберовских повестей и романов, легко поддающихся драматической «инсценировке», влияние Сирина более поверхностно и заметно скорее всего в словесном составе фразы, в ритме ее, правда, чуть-чуть хромающем, лишенном сиринской упругости, и летящей, взвивающейся стремительности. Вероятно, по существу, Берберова – писатель, глубоко чуждый Сирину, и безотчетно она борется с его воздействием, не всегда будучи в силах противостоять ему. В «Книге о счастье» воздействие несомненно, и идет даже дальше ритмических и стилистических совпадений: юный Сам Адлер очень похож на маленького Лужина и так же, как сиринский герой, вносит во все повествование оттенок лунатизма, заставляя его из сна переходить в действительность, из действительности в сон. Но все, что окружает Сама, создано Берберовой вполне самостоятельно, и тут-то ее отталкивание от Сирина и обнаруживается. Она проще и страстнее, она – как бы это вернее сказать? – теплее… Ее манит то «райское», но по существу очень обычное, очень простое человеческое счастье, от которого сфинкс-Сирин с равнодушным высокомерием отворачивается. Читая ее новую повесть, трудно не вспомнить две строчки только что скончавшегося Кузмина:
Быть может, это не любовь,Но так похоже на блаженство…Такое ощущение Сама, такое ощущение Веры: «быть может, это не любовь, но так похоже на блаженство»…
Любить по-настоящему им придется, может быть, позднее, но блаженство они потеряют навсегда. И невознаградимость потери есть именно то, что Берберовой удалось показать и передать с наибольшей силой: оттого эта реалистическая и психологическая повесть, со множеством повседневных и житейских подробностей, похожа, в сущности, на какую-то волшебную сказку для взрослых.
Небольшой рассказ Газданова «Освобождение» искусен и интересен. Представьте себе «Смерть Ивана Ильича», переделанную человеком, которому гораздо важнее изобразить этот печальный эпизод с максимальным техническим остроумием и беллетристической элегантностью, запечатлеть отчаяние человека перед фактом смерти – вот что такое газдановское «Освобождение»! Тема очень глубока и очень талантливо схвачена, талантливо намечена в нескончаемом и непрерывном жизненном потоке. Но разработка темы болезненно расходится с ее сущностью, и если бы существовал измерительный прибор для определения лжи и правдивости замысла, тут перед «Освобождением» стрелка его, мне кажется, дала бы показания неблагоприятные. Конечно, литература есть литература, а не собрание «человеческих документов» и не писание кровью, – все это так… Но когда в литературе слишком удачно и беспрепятственно разрешены слишком страшные догадки, удача скорее смущает, чем радует.
О Сирине мне совсем недавно пришлось писать. Отложу поэтому отзыв о «Приглашении на казнь» до другого раза. Вероятно, роман вскоре выйдет отдельным изданием и чтение «подряд», без перерыва, может сделать ясным в нем то, что казалось до сих пор не вполне понятным.
Как всегда, много стихов, и, как всегда, стихи в большинстве случаев хорошие. Скажу даже больше: все напечатанные в этой книжке стихотворения, если не одинаково хороши, то одинаково имеют право на существование. Оцуп зрелее и требовательнее к себе, чем другие (мне кажется только, что он стоит сейчас у «опасной черты», перед соблазном той простоты, которая по недоступности своей может обернуться манерностью, как едва-едва не случилось в его третьем стихотворении). Цветаева смелее, свободнее, порывистее… Но каждое из помещенных стихотворений, повторяю, достойно внимания. Штейгер за последнее время очень вырос, и от него, пожалуй, хотелось бы ждать чего-нибудь более острого и законченного, нежели бледноватый «Сентябрь», но и в этом стихотворении есть отличные строки, как есть они и в стихах Кельберина. По-своему любопытны «идейные», только, к сожалению, не совсем складные, стихи Иваска. Лирична и женственна Вера Булич. Что же касается Вл. Смоленского, то он, по обыкновению, эффектно-декоративен и декламативен, хотя в пафосе его есть все-таки искорка настоящего огня. Ему вредит многословие и привычка ходить на ходулях, но дарование его очевидно и несомненно. Он мог бы стать подлинным поэтом, если бы пожелал этого.
Среди целого ряда интересных и даже интереснейших статей (Иван Кологривов, «Княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая»; П. Бицилли, «Заметки о Толстом» и др.) выделяется статья Газданова «О молодой эмигрантской литературе».
Основное ее положение – эмигрантской литературы не существует. Мнение это спорно, но мнения возможны всякие. Каждый волен утверждать то, что он считает правильным. Дело резко меняется, когда мы переходим к мотивировке и обоснованию этого мнения, тут Газданов, высказав несколько трюизмов и «общих мест», на трех страничках расправляется не только с эмигрантской литературой, но и с Буало, Руссо, Гоголем, Флобером и др. Тон авторитетный, и настроение самое приподнятое: именно та торжествующая улыбка, о которой речь была выше. Невозможно понять, что побудило редакцию серьезнейшего журнала поместить эту гимназическую писаревщину, и трудно поверить, что автор ее – тот же человек, который написал «Вечер у Клэр», «Путешествие» или хотя бы «Освобождение». Газданов вспоминает гоголевскую «Переписку с друзьями», называя ее книгой «чрезвычайно спорной, мягко говоря». Назову его статью, «мягко говоря», наивной и легкомысленной. Если бы говорить не «мягко», то следовало бы сказать иначе.
<«Ведьма» Тэффи. – «Неизданные стихотворения» В. Брюсова>
Приятно побеседовать с умным человеком: приятно раскрыть книгу Тэффи.
Бывают люди, способные к довольно сложному отвлеченному мышлению, к анализу научных идей, к тонкой оценке чужого творчества, – и притом все-таки, несомненно, ограниченные… Кто таких людей не встречал? Их отличительный признак – в отсутствии непосредственного чутья, в понимании всего лишь «из вторых рук». Они прозорливы над печатной страницей, но если то же самое, о чем на этих страницах рассказано, увидели бы в действительности, то преспокойно прошли бы мимо. С ними мучительно говорить о чем либо, кроме литературы, потому что все их замечания в таком случае – невпопад, все их догадки – мимо. Кто этих людей не встречал? Бесспорно, они и в своей области не более чем «полезности», – и, конечно, подлинный ученый, подлинный писатель, мыслитель, одним словом – творец, должен обладать и даром общего ясновидения (не надо смешивать обычной, неустранимой рассеянности напряженно-думающих людей со слепотой!). Но все же их мозг работает, – только бы пища, предложенная ему, была уже чуть-чуть разжевана.
Вспомнился мне этот тип людей над книгой Тэффи по контрасту, – и вспомнились вместе с тем слова из дневника Андре Жида: «Toujours j’ai plus aimé la vie que les livres». При всем различии их писательского облика, при всей условности оттенка, приданного Жидом его замечанию, вот лучший эпиграф для сочинений Тэффи! И, пожалуй, лучшая ее характеристика.
Острие андре-жидовского признания направлено вовсе не против книг, а против «книжности»: большая разница! Книга, в идеальном смысле, не противоположна и не враждебна жизни, она ее продолжает, развивает, даже завершает, – иначе мы неизбежно свели бы понятие бытия к одному только физиологическому процессу. Но «книжность» есть как бы предпочтение чернил и типографской краски – крови… А во всем, что пишет Тэффи, важно и интересно именно страстное внимание к реальному содержанию повседневности, острый слух, безошибочный взгляд, непогрешимое чутье. Тэффи умна перед всем, что символически можно было бы назвать желтыми пеленками Наташи Ростовой. И тут мы чувствуем ее самостоятельность, потому что в этих дебрях нет никаких проводников для традиций, и надо все оценивать, схватывать, определять на свой риск и страх. Из ее наблюдений, из ее опыта другие позднее сделают выводы, извлекут «общие мысли», – ей этим некогда заниматься, она знает, что для этой роли всегда найдутся исполнители. Тэффи не взвивается в чистейшие сферы проясненного, освобожденного духовного творчества, туда, где «книги» сияют вечным светом, но зато у нее под ногами настоящая, живая, влажная, таинственная наша земля, а не груды кем-то исписанной бумаги. Скажу проще: она умна как женщина, типично по-женски. Но в женских сознаниях есть по крайней мере то преимущество, что они или действительно проницательны, или откровенно ничтожны, – а умов промежуточных, квази-творческих, ложно-вдохновенных, и мозгов, будто обложенных густой ватой, среди них не бывает. Оттого и удовольствие читать Тэффи: с первых страниц удивляешься и радуешься, как будто глядя на то, что знакомо уже давно, но лишь сейчас, в данную минуту, сверкнуло новой краской и открылось с новой стороны. Мелочи, мелочи, мелочи. Но каждая мелочь связана с тем, что никак уж мелким не назовешь, и одно дополняет другое, сливаясь в единую картину, с глубоким, теряющимся в потемках фоном.
В сборник «Ведьма» вошло четырнадцать небольших рассказов. Все они с «чертовщиной». Нелегко догадаться, что фантастику эту не следует принимать всерьез и что, когда Тэффи говорит о домовых и леших, у нее не сходит с лица ироническая усмешка. Порой усмешка уступает место хохоту, как, например, в уморительном рассказе о бане, – однако редко: Тэффи предоставляет читателю смеяться, а сама невозмутима. Тут беспорядочную расстановку стульев в столовой хозяева приписали вмешательству нечистого, там приняли горничную за водяного – случаи разные, конец почти всюду один. И всюду мелькают люди, зарисованные мастерской и легкой рукой в двух-трех штрихах, к которым нечего и добавить.
Общее впечатление все-таки грустное, но это и облагораживает сборник, как и вообще все писания Тэффи. Давно уже смех «сам по себе», раскатистый, «здоровенный», жирный, самодовольный, стал невыносим, – а в русской литературе он и никогда не был выносим, потому, вероятно, что тон нашему смеху дал Гоголь (по-моему, невыносим был Аверченко – говорю это мимоходом, зная, что остаюсь «при особом мнении»; и, наоборот, прелестна и подлинно-поэтична улыбка Зощенко – в лучших его вещах). Тэффи же за последнее время смеется как-то уж совсем нервно, с перебоями и такими отступлениями, в которых тоска вытесняет все. Достаточно прочесть начало первого рассказа в новой ее книге – это описание провинциального городка ночью, с цесаркой, плачущей о зарезанном самце, – чтобы убедиться, как мало расположен автор веселиться. «Привычка – вторая натура»: автор смеется, но похоже на то, что смеяться он устал.
Если я начал с замечания, что чтение Тэффи – беседа с умным человеком, то добавлю: с умным и очень усталым человеком. С таким, который втайне думает, кажется, что все идет к черту, что ничему помочь нельзя, что жизнь жестока, груба и страшна, а людям нужнее всего жалость. Отсюда недалеко и до «неба в алмазах» с обещанием отдыха. Тэффи этого не договаривает, вероятно, потому, что сейчас как-то неловко такие слова произносить, – да они и не прозвучат, как надо. Ей ближе брюсовское: «сами все знаем, молчи». Или афоризм современного острослова: «Если надо объяснять, то не надо объяснять».
* * *О Брюсове.
После смерти поэта вышло уже три издания его сочинений – с огромным количеством неопубликованных стихотворений. Только что появился в Москве новый сборник в целых пятьсот страниц, содержащий неизданные, почти никому неизвестные стихи Брюсова. И это еще не все. В рукописи осталось около тысячи стихотворений, несколько драм, роман, две большие поэмы, целый ряд рассказов. Какая плодовитость! Недаром Брюсов незадолго до смерти утверждал, что «потрудился честно и упрекнуть себя ни в чем не может». Просматривая новую книгу его стихов, невольно испытываешь сомнения: не было ли в этой плодовитости доли графомании? Замечу, что я ни в малейшей степени не разделяю мнения, будто Брюсов не был даровит, – я считаю, что при внимании и чутье к самой плоти, к словесному составу стихов, стоять на этой точке зрения невозможно. Айхенвальд был глубоко не прав. У Брюсова отрицать можно все, что угодно, кроме большого, сильного таланта, а талант этот сказался в первых же его опытах, даже в таких всероссийски осмеянных строфах, как:
Тень несозданных созданийКолыхается во сне…– строфах, где чудесный ритм придает причудливым образам сходство с заклинанием. Брюсов – подлинно «Божьей милостью поэт». Но если даже гении стихотворной речи – в особенности лирики – «держатся», в сущности, на нескольких десятках неповторимых вещей (в лучшем случае на нескольких десятках, а бывает, что и пять-шесть строк обеспечивают бессмертие), которые нельзя забыть, и в полном собрании сочинений только эти редкие «перлы» действительно сияют каким-то горчим и щедрым светом, если даже с Тютчевым, и с Лермонтовым, и с Некрасовым это было так, если даже Пушкин, даже Пушкин не исключение из этого правила, то что же говорить о Брюсове! Конечно, дать одни только шедевры невозможно: нужно окружение, обстановка, в которой внезапно и неожиданно расцвели бы эти «цветы вдохновения». Но у Брюсова окружение разрослось до неслыханных размеров, – и он оказался не в состоянии оживить его. Брюсовские тома хочется потрясти, как трясут книгу, в которой затерялся вложенный нужный листок: то тут, то там из них выпали бы страницы с первоклассными, прелестными стихотворениями. Правда, немного. Если даже не быть чересчур строгим и не отбирать, так сказать, «для вечности», наберется небольшой, довольно тощий сборник. А Брюсов ведь исписал тысячи и тысячи листов, притом далеко не всегда в той откровенно-рассудочной манере, которая для него считается характерной, а симулируя исступленную страсть, пламенный пафос, высокое историческое прозрение или пророческую лихорадку. Чего-чего только нет, хотя бы в этой его новой, посмертной книге! Обращение к каким-то сомнительным «малюточкам» и не по возрасту бойким «девочкам тринадцати лет», самовлюбленные самопревозношения характера то литературного, то эротического, надменные споры с современниками, гимны в честь древних цариц и богинь рядом с реквиемом на смерть Ленина, воспоминания об Атлантиде рядом с перепевами гренландской (даже гренландской) поэзии, призывы к России, к будущему, к марсианам, к Господу Богу и прочее, и прочее, и прочее. Гумилев как-то смеялся, что если сегодня назвать при Брюсове имя какого-нибудь неизвестного ему средневекового рыцаря, завтра будет у него готова ода или поэма в честь этого воителя… Шутка недалека от истины. И это-то именно и наводит на догадки: не таились ли у этого человека «две души в одной груди», одна душа поэта, другая – графомана? Правда, Брюсов считал себя поэтическим культуртрегером, видел свое призвание в восстановлении престижа русской поэзии, вообще боролся за стихи, – но все-таки объяснить, зачем он перекладывал в размеренные строки и строфы все, что бы ни пришло ему в голову, трудно.
Какие стихи включены в новый сборник? Не только те, которые были забракованы поэтом, но и такие, которые он не успел обнародовать и предназначал для новых изданий прежних своих книг. Справедливость требует признать, что есть в числе неизвестных нам вещей создания, вполне достойные Брюсова. Например, «Свет и тьма»:
Есть поразительная белостьСнегов в вечерний час, и естьВ их белизне – святая смелость,Земле непокоренной весть.Пусть тьма близка, и закатилосьНагое солнце за рубеж:Его сиянье только снилось,Но небо то ж, и дали те ж.И звезды пусть во тьме возникнутИ с изогнутой высотыЗемле свои приветы крикнут:Они растают, как мечты.Но свет первее солнц и мира,Свет все – что есть, бессветья нет,А тьма лишь царская порфира,В которой выступает свет.Стихи помечены 1904 годом, когда эта четкость, стройность и точность, эти неожиданные перебои ритма еще действовали магически. Будь они в свое время напечатаны, их все бы повторяли с почтительным и восторженным удивлением, как повторяли стихи из «Венка» или «Всех напевов».
<«Пятеро» В. Жаботинского. – «Похищение Европы» К. Федина>
Прошу читателя простить меня, что начинаю с личного признания: я никогда не был в Одессе… Передо мной лежит новая книга В. Жаботинского «Пятеро». Перелистывая и читая ее, чувствую, что вполне ее оценить, уловить ее «колорит», ее «аромат» – не могу. Она – о том, чего я не видел, и обращена к людям, которые способны придти в мечтательное волнение, услышав одно только это слово: Одесса.
Habent sua fata libelli, – и города тоже. В России было только два города, внушивших обитателям страстную, ревнивую влюбленность, доходящую порой до отказа допустить какие-либо сравнения: Петербург и Одесса. Москва – не в счет. Москву любили все, а у прирожденных, коренных москвичей привязанность к своему городу, как бы крепка она ни была, лишена того восторженного романтизма, который характерен для петербуржцев и одесситов. Москва-«матушка», белокаменная, тяжелая, сытая, дородная, к ней отношение сыновнее, лишенное лихорадки и страсти. А петербуржцы и одесситы именно влюблены в свои города, – и особенно теперь: влюблены в воспоминания. Поговорите с петербуржцем о белых ночах, о весенних прозрачно-зеленоватых холодных закатах там, высоко, над Адмиралтейством, о Невском в ранние зимние сумерки, когда внезапно вспыхивают ряды фонарей, – поговорите и убедитесь, что для него это разговор о первой его любви. Он не сумеет, пожалуй, объяснить, что было в Петербурге единственного, неповторимого, на всю жизнь пронзившего сердце, но если вы усомнитесь в этой единственности, – посмотрит на вас с пренебрежительной жалостью.
У одесситов, может быть, меньше склонности к поэтически-мистическим ноткам в воспоминаниях, – у них не было «Медного всадника», «Пиковой дамы», Достоевского, да и юг, «роскошный» юг не располагает к мистике. Но одержимость та же. Для того, кто в Одессе не был, такие имена, как Ланжерон, Малый Фонтан, Дерибасовская, – обычные слова. Для них – какие-то райские звуки, всей прелести которых вам не понять.