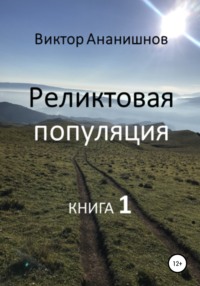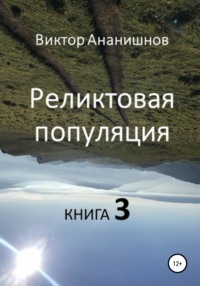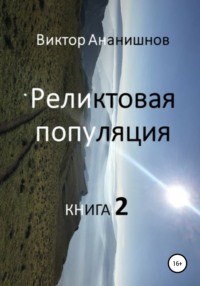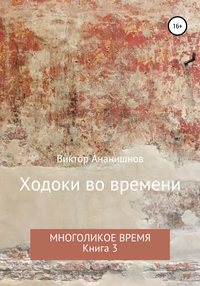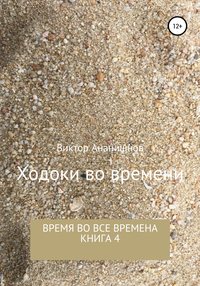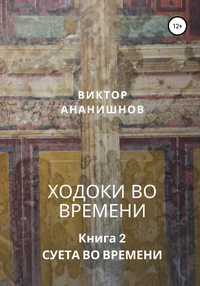полная версия
полная версияХодоки во времени. Освоение времени. Книга 1
– Алекс тоже оттуда. Из пограничья. Вот он и те, кто осуществляет связь сотрудников института в пятидесятичётырехлетнем промежутке времени, приносят нам вести о передовом будущем… Все мы занимаемся проблемой параллельности миров, но пока что ощутимых результатов не имеем.
– Но может быть, – осторожно предположил я, – нет никаких других вариантов? И потом…
– Нет, Ваня. Аппаратчики и мы встречаем перлей.
– Кто же они, эти перли? Чудовища, черти?
– Какие там чудовища? – вдруг вспылил Симон. – Люди! Обыкновенные люди. Как ты, как я…
– Так чего их бояться? Люди, они и есть люди.
– Конечно, люди… Но и перли! Впрочем, есть перли и… как у вас говорят, не к ночи будут упомянуты, тарсены. И в компании Радича кто-то тарсен, а рядится под перля. Я чувствую, и он или они знают о том, подстерегают…
– Ты-то зачем им?
Симон коротко глянул на меня, словно оценил, надо ли мне раскрывать какую-то очередную тайну ходоков или повременить. По-видимому, решил остановиться на втором варианте.
– Никто не понимает тарсенов… Да и некоторых перлей тоже.
– Они, ты же только что сам сказал, обычные люди, значит, и мыслят и поступают так же как и мы.
– Они тарсены и перли, Ваня. Хотя… – он яжело вздохнул. – Я тоже прой сомневаюсь и в тех, и в друих. То, что они есть, это точно. Но так ли страшны все перли? И могут ли жить среди нас тарсены? И всё-таки…
Слушая его, я стал безнадёжно тупеть. Что-то я недопонимал. Даже если и допустить многообразие миров где-то на границе этого самого будущего времени, в чём я сомневаюсь, то и тогда не понятно отношение между людьми разных путей развития. Наоборот, казалось мне, надо объединить усилия многочисленных клонов потомков, от одних прародителей для решения совместных проектов по улучшению жизни, в научных поисках… А у них возникла проблема вражды. Глупо же, глупо…
– Беда в том, – говорил тем временем Симон, несколько отвечая на возникающие у меня мысли, – что институт наш создан уже где-то за пределом образования параллельности. Поэтому остаётся возможность проследить и изучить лишь только один вариант, доступный нам. А вдруг он побочный?! Наш вариант! Не основной! Страшно, Ваня, оказаться в положении, когда наш мир сам себя изживёт, время наше истает и перестанет существовать. И мы окажемся в ловушке… Нет! В небытии. Вот Камен потому-то из двадцатого века ни шагу…
– То есть, вы тоже можете быть перлями?! – воскликнул я, поражённый догадкой.
Симон вздохнул и после длительной паузы сказал:
– Выходит, что так.
– И перлей же боитесь?
– Перль – представитель параллельного мира. Если ты находишься с ним в соприкосновении или вообще вблизи в тот момент, когда его мир исчезает, то исчезнет и он, увлекая тебя за собой. А тарсены…
– Хватит, Симон, – наконец, сказал я, поднимаясь со скамьи. – Извините, но Вы мне сегодня столько наговорили, что будь я более нервным и любопытным, то свихнулся бы.
Так я выразил своё отношение к услышанному от одного из своих Учителей. Да и что ещё можно было сказать по поводу его откровений? Тоже мне, запуганные потомки!
– Что же получается? Неужели все люди твоего и передового будущего так и живут под страхом исчезновения?
– Что ты, – почти испуганно сказал Симон, – Об этом знаем лишь мы. Остальные… Те живут.
– И правильно делают!
Я начал злиться. Подумать только! Их современники строят, изобретают, любят, летят вперёд на гребне прогресса… А рядом с ними кучка затравленных, знающих всё о прошлом и будущем специалистов, у которых поджилки трясутся: Ах! Как бы чего не вышло!
Не прав я, конечно, был, не прав! И вскоре сам на своей шкуре познал все прелести параллельных миров. Но тогда мне обидно стало за Симона, которого уважал, за Сарыя, которому, как не говори, был обязан многим, за аппаратчиков, ребят не робкого десятка, что работают, рискуя собой, над проблемой времени, за все их страхи и потуги обрести устойчивость в неустойчивом мире.
Впрочем, подтекст этой слезливо-печальной, как мне показалось, исповеди одного из моих наставников был понятен, хотя, возможно, Симон и не думал меня разжалобить и чего-то добиться. Тем не менее, становилось ясно, что мне надо поискать гипотетические варианты существования перлей вместе с тарсенами и, или отбросить версию их существовании, или подтвердить. И тогда… Что тогда? Бояться вместе с ними, даже, несмотря на то, что моим современникам ничто не угрожает? Или, и вправду, вдруг очутиться во вневременьи изживающего себя или не выдержавшего конкуренции альтернативного мира?
Не-е-ет! Всё это выше моего понимания…
– Я посмотрю… – пообещал я и тут же раскаялся, потому что делать сейчас этого не хотелось. Потому добавил скороговоркой: – Только не сегодня!
Симон вскинул на меня удивлённый взгляд.
– Что ты посмотришь?
Теперь я удивился.
– Посмотрю, есть ли эти перли и тарсены на самом деле.
– А-а… Они есть. Но почему ты хочешь на них посмотреть?
– Не хочу я ничего, – нелюбезно отозвался я и, скрашивая свою грубость, добавил: – Давайте займёмся доном Севильяком, а?
– Может быть, и займёмся, – неопределённо пообещал он. – Пора нам возвращаться.
В душе моей от разговора с Симоном осталась неустроенность и настороженность.
Становясь на дорогу времени в будущем, я уповал на Симона.
Было отчего.
В тумане, который должен был меня окутать, я боялся потерять направление. А это задержка совершенно ненужная: так мне в тот раз не терпелось быстрее попасть домой. В наш тихий двадцатый век, где время течёт плавно, девушки самые красивые и понятливые, а всё, что меня там окружает – целесообразно и привычно.
Однако после перехода очутился я на обширном плато, изрезанном, как сетью морщин, глубокими лощинами. И путь мой лежал по одной из них вниз, где вдали уже проглядывалось моё настоящее. Обозрел я открывшееся пространство, так непохожее на привычное для меня поле ходьбы и подумал, что, наверное, как раз на этом плато и реализовались все варианты параллельных миров. Шаг влево – один мир, быть может, наш, шаг вправо – и я в мире перлей или тарсенов.
Как много я тогда не знал…
Симон цепко держался за мой рукав. Он внимательно выслушал мои размышления по поводу того, что я увидел. И не согласился с ними.
– Нет, Ваня,– покачал он головой и задумался, вновь становясь похожим на обычного Симона, каким я привык видеть его всегда: неторопливого, чётко формулирующего свои мысли, спокойного. – Это, скорее всего, реализация только лишь, возможно, того будущего, где мы сейчас находимся, а не всех вариантов сразу. Иначе слишком просто. Плато как поле шахматной доски, где шаг влево, шаг вправо – новая позиция. В поле ходьбы так не бывает. Впрочем, твоё видение поля сильно отличается от моего. И что ты сейчас видишь, позже сам разберёшься. Главное для тебя, мне думается, выбрать правильную стратегию проникновения в будущее.
– В каком… смысле? – не понял я.
– В прямом. Твоё представление будущего меняется в зависимости от того, с какой стороны к настоящему ты находишься, то есть подходишь к нему из прошлого или из будущего. Должна иметь место симметрия. Уходя в будущее, тебе надо избавляться от тумана, как ты это делаешь, уходя в прошлое. То же самое и по возвращении назад.
– Но я не знаю, как от него избавиться. Он меня окружает со всех сторон…
– И сейчас?
– Нет, – растерянно сказал я.
Тумана вокруг меня не было, иначе бы я не видел плато, раскинувшееся во все стороны. Оно было таким, будто я стоял в степи, где видно за многие километры.
– Вот и хорошо, – буркнул Симон. – Веди куда надо!
К настоящему мы шли недолго, и теперь мои ощущения совпали с продолжительностью ходьбы и протяжённостью пройденного времени, не то, что когда мы проникали в будущее в сплошном для меня тумане.
В моей квартире стояла тишина. Учитель куда-то опять без нас отлучился. Наверное, в мифический Фиман.
– Ты, Ваня, не против того, если я у тебя посплю? – лукаво подняв бровь, попросил Симон.
– Конечно, – не отказал я, но на моём лице, по всей вероятности, было написано такое удивление, что Симон криво усмехнулся.
– Побуду у тебя. А ты бы развлёкся что ли? У себя или во времени…
Я развлёкся.
Оставил за спиной тысячелетия и с десяток мест на Земле, где увидел много чего – и плохого, и хорошего. Всего не перескажешь… Одно забылось навсегда, другое напоминало о себе неоднократно, а подчас становилось для меня неким предвестником новых событий.
А сколько времени – моего, личного – утекло на эти развлечения, уже и не припомню. Будто плыл в круговороте, топчась на одном месте…
– Ваня, где тебя опять носило? – встречал меня каждый раз почти одной и той же репликой Сарый, глядя на мои запавшие щёки и утомлённый вид.
– Бегаю во времени, как вы с Симоном посоветовали, – так же отделывался дежурной фразой и я, чтобы не вдаваться в подробности.
– И как? – тот же неизменный вопрос Учителя.
– Ничего хорошего, если всё суммировать.
– Да-а, – разочарованно ответствовал мой Учитель.
Его разочарований от моих хождений во времени я не понимал.
Схожу, думаю как-то, на жизнь Древнего Рима посмотрю… Гладиаторы, римский плебс… Императоры… Но лучше всего попасть в Афины времён Мильтиада Младшего. Много когда-то про него знал.
Ещё в школе учитель истории не слишком любил меня, настолько я ему победителем при Марафоне надоел. Очень я им интересовался. Книжки всякие читал. Вот Дельбрюк свою “Историю военного искусства в рамках политической истории” так и начал с Марафонской битвы и Мильтиада там представил предвестником полководцев новой формации – новаторов будущих войн. Уже за ним, за Мильтиадом Младшим, якобы, последовали деяния Филиппа Второго и его достославного сына Александра Македонского. В детстве я даже строчки из «Полтавы» Пушкина переиначил:
Вдруг слабым манием руки
На персов двинул он полки.
Хотя у Мильтиада, сына Кимона, под началом в тот сентябрьский день было всего одиннадцать тысяч воинов: свободных афинян и рабов, да тысяча платейцев в том числе, – но победа над десятками тысяч персов получилась полной, принеся Мильтиаду славу в веках, Афинам же – авторитет и уважение в греческом мире на долгие годы.
Да что тут вспоминать Дельбрюка!
Помыкался я по комнате, на улицу даже настроился пойти, чтобы о Марафонской битве не думать. Потом, как говорится, махнул рукой, переоделся так, как мне казалось, одевались люди того давнего времени, и подался в четыреста девяностый год до нашей эры, на берег слабенькой речки, впадавшей в Марафонскую бухту…
Пёстрая, неровная по фронту масса персов, вернее, тех неведомых народов, что пришли на землю Эллады под руководством персов, моргая в солнечных лучах бесчисленными мечами и копьями, вопя от страха, азарта и причастности к предстоящей резне, быстро накатывалась за тучей, посылаемых ею же стрел на редкую, но чёткую цепочку гоплитов. Перед нею на лошади возвышался Мильтиад – стратег афинского войска в этот день, седьмого сентября.
Историки, писавшие о Марафонской битве, реконструировали её правильно. И расположение на флангах греческого войска усиленных групп, и команду Мильтиада бегом броситься на врага, чтобы проскочить губительную от ливня стрел полосу. И стойкость гоплитов – их тонкая ниточка не только сдержала нестройный и могучий вал персидской толпы, но, уплотняясь в тугую дугу с провисом в центре, шаг за шагом двинулась вперёд, оставляя за собой груды поверженных пришельцев.
Будто цветы застыли на каменистом ложе долины от ярких халатов убитых.
Одно – читать, но видеть своими глазами, уже зная, чем всё кончится, намного интереснее и более захватывающе.
Набегая от берега моря, от кораблей персов, прокатилась видимая волна по всему их воинству. С ходу она ударилась будто в монолит, заполняя округу гулом, и – пошла обратно, сбила в тесное скопище и без того мешающих друг другу людей. А перед ними, подобно отлаженной и хорошо смазанной машине, рубилась и кололась, почти теряющаяся на фоне многолюдства персов, цепочка греков. Будто сачок из тончайших, но до невозможности крепких нитей, затягивал в себя и гнал перед собой неисчислимую морскую мелочь.
Я стоял довольно далеко в стороне от битвы, на склоне горы, и считал себя защищённым расстоянием от стрел и мечей. Но оказалось, что и здесь не было спокойствия. Или мне фатально не везло при подобных экскурсиях в прошлое?
Прямо на меня из колючего кустарника, гогоча и раздирая в клочья одежды, вывалилась толпа персов-мародёров. Они, наверное, промышляли в окрестностях Марафона и теперь, довольные и пьяные от неразбавленного вина, спускались в долину. У некоторых на загривках висели блеющие козы, другие волокли ворох каких-то тряпок, третьи ласково обнимали изящные амфоры с вином.
О битве они, по-видимому, даже не помышляли, уверенные в победе соплеменников, и решили первыми пожать её плоды. Как это согласовалось с дисциплиной, мне было непонятно. В те времена мародёрство процветало, иначе, зачем было тащиться в такую даль, но во все времена существовал жёсткий порядок, докатившийся и до нас: – уклонился от боя, значит, дезертировал, а с такими разговор короток – смерть.
Впрочем, к чему мои предположения? При их виде я, как в других случаях, вновь позабыл и о своих способностях растаять для них во времени, и о том, в каком прошлом нахожусь.
Они ко мне, а я – чуть ли не поговорить с ними собрался о Марафонской битве. Смех, да и только! Другой на моём месте, из туземцев, убежал бы, по крайней мере, или приготовился к худшему. Я же, мол, ребята, я вас не трогаю, вы меня тоже, и – идите своей дорогой.
Проклятое время, проклятая вражда между людьми!..
Для них я представлялся, наверное, легкой добычей, чтобы позабавиться только, а потом… Не знаю что потом. Поработить, убить…
Так бы оно и случилось, не имей я возможностей уйти от них, а возникшие намерения уже подогрели мародёров. Они, видя мою, якобы, беспомощность, приступили к делу спокойно и даже без особой спешки. Козы, тряпьё и амфоры были опущены на землю. Лениво перебрасывались непонятными для меня репликами, неторопливо вытирали обильный пот с лица и шеи. Готовились.
Не найдя ничего лучшего, как запоздало решиться выскочить из круга персов, я бросился напролом туда, где их было поменьше. Но и они не дремали. Кто-то из них дотянулся до меня лезвием меча и скользнул поперек правого предплечья, а метко пущенная стрела попала, к счастью, мне под мышку, лишь только поцарапав кожу под ней.
Где-то внизу кипела Марафонская битва. Умирали свободные греки и их рабы, кровью покупая себе освобождение. Скошенной травой под косой падали под ноги афинянам тысячи ассирийцев, медийцев, персов и выходцев из тех мест и народов, которые объединил в рыхлый конгломерат громадной империи Дарий Первый.
А над великой схваткой, уже входящей в историю, на каменистом склоне, поросшем колючим, жёстким кустарником, от шайки мародёров зайцем убегал я, на ходу становясь, наконец, на дорогу времени.
«Кино» у меня опять не вышло! Пошёл по шерсть, а вернулся стриженным.
Сарый, когда я в разодранной одежде и в крови завалился в квартиру, хитро посматривая мне в глаза, промыл порез на моем плече и заклеил пластырем.
– А я, – сказал он, оглаживая на мне мягкими пальцами белую полоску пластыря, – в битве при Фермопилах участвовал. Да, да… Изображал, как и все в том достославном в веках бою, мужа достойного и неустрашимого. Но, – Учитель значительно помедлил, – среди тех трёхсот спартанцев, о ком говорят и сейчас, меня, по сути дела, не было. Драка только-только начиналась, а мне кто-то камнем из пращи попал в грудь. Я повалился на поле брани замертво. Ночью пришёл в себя. Раздетый догола и истоптанный – сплошной синяк. Едва в своё время вернулся. Лечился с полгода. Лёгкое мне тогда заменили, мышцы на левой руке реставрировали. А ты вот уцелел, лёгким испугом отделался…
Видать, в молодости мой Учитель был непоседой.
– У меня совсем всё не так было, – поморщился я от боли и душевного расстройства и рассказал Учителю, как всё случилось.
Сарый покачал головой. Осуждал.
– Носит тебя, Ваня, как неприкаянного. Потому у тебя ничего путного и не получается. Чужая жизнь – не кино, как ты тут выразился. Пришёл, посмотрел и забыл… Не надо торопиться, а побыть хоть самую малость среди тех, на кого посмотреть хочешь. А то, как в набегах участвуешь. Прибежал, схватил, оплеуху получил!.. Мы думали, советуя тебе по прошлому побегать, что ты сам поймёшь, что к чему, а ты… Так ничего и не понял. Умный ты, Ваня, умный, но… так себе.
– Ладно, уж, – буркнул я не слишком вежливо. Но мне ли обижаться? Сарый-то прав. – Симон был?
– Был. Как не быть. И вещицу тебе важную оставил, – таинственно сообщим Учитель.
– Ну, и какую?
– По мне, так я тебе никогда не посоветовал бы её принимать, – не ответил на мой прямой вопрос Сарый. Он посерьёзнел лицом. – Но, – развёл он руками, – они там, у себя в институте, что-то подсчитали и решили тебе его подарить. На всякий случай, мол.
– Да что за вещица? – нетерпеливо спросил я.
– Лежит там, – Сарый кивнул в сторону комнаты. – Лежит. Я её на подушку положил.
Совсем меня заинтриговал Учитель.
На подушке лежал… лежало нечто, похожее на аккуратную миниатюрную электродрель. Я её взял, повертел в руках.
– И что это? – спросил у подошедшего Сарыя.
– Это, Ваня, лазерный бластер.
– А?.. А-а… – не нашёлся я сказать что-либо вразумительное. – Это же оружие?
– Оно… Красивая вещица?
– Оружие – не вещица, – начал я было наставлять Учителя, но во мне заговорило любопытство. Сколько я начитался о бластерах в фантастических рассказах и романах. А тут – вот он, как детская игрушка лежит. Я взял его в руки. – Как им пользоваться, покажете?
– Только не я! – воскликнул испуганно Сарый и поднял перед собой руки, как бы защищаясь от меня. – Придёт Симон, вот он и расскажет, и покажет. А меня не спрашивай.
– Когда придёт?
Учитель покачал головой.
– Торопишься? Ах, Ваня, зря они там всё это надумали. Тарзи, эти исчадия, порой, конечно, встречаются на дороге времени, но это не значит, что надо всегда в них стрелять.
– Я согласен, но почему они так решили?
– Симон придёт, вот у него и спроси.
– А Вам разве не интересно?
– Нет, Ваня.
– Вы пацифист?
– Ну, вот ещё! – искренне возмутился мой Учитель, словно я уличил его в чём-то мерзопакостном, столько экспрессии было в этом отрицании. – Зачем бы я тогда правдами и неправдами оказался в Фермопилах? А вначале в Спарте. Там же все знают друг друга в лицо. Каждый грек известен своим отцом, дядей или братьями. И втиснуться в спартанскую когорту… Нет не когорту. Это у римлян… Не помню… В общем, попасть в эти триста было нелегко… Был бы пацифистом, дома просидел бы…
С человеком не пуд соли съесть надо, а значительно больше, только тогда он раскроется для тебя с самой неожиданной стороны.
Сарый, мой Учитель – один из трёхсот спартанцев, остановивших армию персов? Ну, кто может поверить, глядя на него сейчас? Спартанцы – это же сплошные бицепсы, мощные торсы, красивые лица… Впрочем, надо сходить и посмотреть, каковы они были на самом деле. Вон чудо-богатыри Суворова были росточком, как иногда говорят, в метр, если ещё считать с шапкой и на коньках. Всё потому, что они родились и жили во времена малого ледникового периода. В то время на Земле люди все такими были.
По крайней мере, в Европе так оно и было. Будто бы в битве при Полтаве встретились две армии: русская и шведская, – так вот, средний рост шведских солдат был всего метр пятьдесят три, а русских – на сантиметр меньше. То-то Пётр Первый гигантом среди них был…
Возможно, и спартанцы – мелкота, тогда Сарый среди них гляделся богатырём.
– Ладно Вам, – перебил я поток слов Учителя. – Когда всё-таки придёт Симон?
–
Вот-вот…
Симон появился отнюдь не «вот-вот».
Усталый и чем-то расстроенный. На мои вопросы отвечал нехотя, многозначительно переглядывался с Сарыем и вздыхал.
Короче, печальная встреча, бессмысленный разговор.
Симон ушёл, а я вновь остался перед выбором, куда и в какое время податься, чтобы переждать полосу ненужности ни ходокам, ни учёным из института, что в будущем.
Ни самому себе…
Часть третья
ПОЯС ДУРНЫХ ВЕКОВ
О скалы грозные дробятся с рёвом волны
и белой пеною, крутясь, бегут назад.
Но твёрдо грозные утёсы выносят волн напор,
над морем стоя.
«Садко». Песня варяжского гостя.
…с шумом покорным, немолчным
волны идут на погибель.
В. Брюсов.
Последний Подарок
Здесь, под крутой скалой гор недоступности, Иван с удивлением обнаружил распашные арочные ворота.
Вначале он посчитал увиденное за галлюцинацию. Какие тут могут быть ворота?
Он протирал глаза, оглядывался, вновь всматривался и… видел то же самое – ворота. Явно рукотворные.
Арка ворот выделялась на фоне серо-невзрачного творения природы – скалы – отделкой кроваво-красным камнем. Камни со столешницу журнального столика были едва тронуты обработкой, но хорошо подогнаны. В центре каждого из них отсвечивала зеркально отполированная площадка величиной в ладони две. В глубине зеркалец просматривались какие-то причудливые знаки: в них отсутствовали прямые линии – плавные завитушки, изгибы, петли – всё это переплеталось в замысловатый узор. Узкие и высокие, явно деревянные створки ворот, сверху донизу имели оклёпку бляхами из того же камня с вытесненной или вырезанной монограммой – латинские буквы P и G.
Потрогав рукой и убедившись, что ему не показалось, что неожиданное сооружение существует наяву и имеет материальную основу, Иван слегка успокоился. А чуть приоткрытые створки разожгли его любопытство и он, позабыв обо всём, прильнул к узкой щели. Делать это было неудобно из-за её малости. Приходилось плотно упираться лбом и высматривать то, что могло располагаться за нею, то одним, то другим глазом поочерёдно.
Однако через минуту-другую он разочарованно вздохнул, так как впереди виднелась только темнота, а раздвинуть створки шире никак не удавалось, словно их что-то подпирало изнутри.
Иван передохнул, обследовал округу, опять вернулся к воротам и опять прильнул к тонкой полоске раствора ворот…
И тут же от сильного удара отлетел далеко назад, по направлению к настоящему. Ворота внезапно с силой растворились на всю ширину.
Толкачёв лежал и ошеломлённо потирал ушибленную скулу. Представив, как он сейчас выглядит со стороны, Иван готов был уже рассмеяться. И то – не суйся куда не следует, – подумалось ему. Как это… Любопытной Варваре нос оторвали…
И всё-таки, откуда и зачем здесь сделаны ворота? И не привёл ли он в действие какой-то механизм, раскрывший створки?
В открытом зеве всё также таилась тьма, и Иван стал приподниматься, чтобы продолжить исследование.
И не успел.
Из темноты с жужжанием вылетело нечто бесформенное, но большое, не меньше кухонной плиты. Оно спикировало, жёстко врезалось в землю, едва не поразив Ивана, и закрутилось юлой. Из-за быстрого вращения, рассмотреть, что оно собой представляло, не было никакой возможности, но отодвинуться от него следовало, ибо, хотя это непонятное устройство крутилось на месте, но скоро стало заметно: оно исподволь подбирается к Ивану.
Он отполз на безопасное, как ему показалось, расстояние, и только сейчас у него в голове будто лопнула какая-то плёнка. Она до того как бы не давала ему трезво оценить случившееся с ним происшествие на дороге времени. Поэтому Иван сейчас сидел и удивлялся не столько тому, что вылетело из ворот, а самим воротам. Факт их существования мгновенно изменил некоторые его представления и предположения о поле ходьбы и недоступности прошлого.
Действительно, если горы нельзя обойти или перевалить через них, так почему бы под ними не пробить туннель, дабы по нему всё дальше и дальше уходить в прошлое?
Конечно, построить такое в поле ходьбы – занятие сложное, практически невыполнимое, особенно с технической стороны дела. Но кто-то же уже догадался давным-давно до него о такой возможности и уже осуществил идею, проделав эту дыру под горой!
Впрочем, почему бы и нет? Ведь умудряется же Сарый перебрасывать какие-то вполне материальные мостки с «камушка на камушек» на своей дороге времени.
Но такое инженерное сооружение подвластно только титанам ходьбы во времени. Неужели они где-то здесь, в реальном мире, существуют и используют проход в прошлое, минуя все превратности предела поля ходьбы?
Так он словно в полузабытьи полулежал, потирал скулу, размышлял и смотрел на крутящееся непонятное нечто.
Но всё это улетучилось из сознания Ивана, когда нечто прекратило своё бешеное вращение и обозначило свою нелепую, по всему, искусственную конструкцию. Оно легко вспорхнуло на метр в высоту и выстрелило в сторону человека три тонких суставчатых щупальца. Они подхватили его, спеленали – даже не шелохнуться, руки прижаты, ноги оплетены – и поволокли в проём ворот.