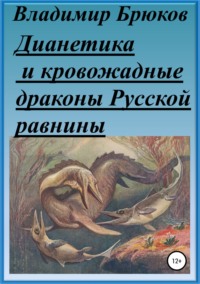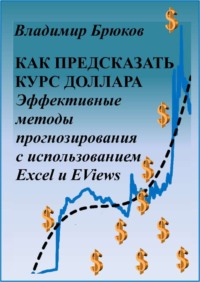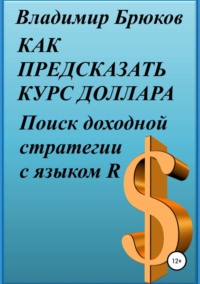полная версия
полная версияНовая летопись Камышина
Адам Олеарий о Камышенке 1636 г.
Судя по дошедшим до нас историческим свидетельствам, Камышенский острожек стрельцами ставился не каждый год. Во всяком случае Адам Олеарий, который в 1636 г. качестве секретаря голштинского посольства отправился вниз по Волге на корабле «Фредерик», об этом острожке ничего не пишет, хотя довольно подробно описывает речку Камышенку: «3 сентября мы с левой стороны увидели реку [Е]руслан (в подлиннике: Ruslane), а направо напротив круглую гору Ураков [бугор] (в подлиннике Urakoffskaru), которую считают в расстоянии 150 в. от Саратова. Эта гора, как говорят, получила свое название от татарского государя Урака, который здесь бился с казаками, остался на поле битвы и лежит погребенный здесь. Дальше с правой стороны находится гора и река Камышинка. Эта река вытекает из реки Иловли, которая в свою очередь впадает в большую реку Дон, текущую в сторону Понта и представляющую пограничную реку между Азией и Европой. По этой реке, как говорят, донские казаки со своими мелкими лодками направляются к Волге. Поэтому это место и считается крайне опасным в отношении разбойников. Здесь мы на высоком берегу направо увидели много водруженных деревянных крестов. Много лет тому назад русский полк бился здесь с казаками, которые хотели укрепить это место и закрыть свободный проход по Волге. В этой стычке, как говорят, пали с обеих сторон 1000 человек, и русские были здесь погребены. [См. Олеарий, Адам. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно / Введ., пер., примеч. и указ. А.М. Ловягина. СПб, 1906, с. 387-388].
Иоганн де Родес о нападении калмыков на Камышенский острожек
Еще одно упоминание о Камышенском временном острожке можно встретить в донесении от 16 ноября 1652 г. из Москвы шведской королеве Христине от ее торгового представителя Иоганна де Родеса (год рождения неизвестен, умер 31.12.1655 г.). В этом документе говорится следующее: «20 прошлого месяца по глубокообязаннейшему смирению было (послано) мое последнее (письмо) Вашему Кор. В-ству, на которое я подданнейше ссылаюсь. С тех пор сюда пришло несомненное известие, что калмыцкие татары напали на эту страну и вторглись (в Россию), осадили на Волге между Казанью (Casan) и Астраханью (Astrakan) 3 города, а именно Самару (Samara), Саратов (Saratof) и Камышин 199 (Camirzin). Нельзя еще узнать, как они сильны, но предполагают, что они, так как осадили эти города, в совокупности составляют довольно большую силу и что-то особенное замышляют. Говорят, что они имеют среди себя несколько иностранных офицеров, которых они приблизительно 7 лет тому назад взяли в плен у здешних (т.е. русских), и которые теперь должны им служить полковниками и предводителями. Как я извещен, если бы они завладели этими 3 названными местами, в особенности, если бы они хорошо укрепились, то проход (Pass) от Астрахани и от тех (мест) и, следовательно, из Персии они могут загородить и держать Волгу запертой, что (для русских) было бы большим убытком, если бы им (калмыкам) это удалось. … Вследствие этого было обнародовано по всей стране генеральное воззвание, чтобы весь военный народ был готов выступить в поход по первому приказанию. Между тем отсюда отправляются туда 2 "приказа" (Praecasen) "стрельцов", и отсюда послано приказание в Нижний (Новгород) и в Казань, так как находящиеся там солдаты ближе под рукой, чтобы они приступили к сопротивлению. При теперешней снова наступившей здесь сильной оттепели и дожде долго будет длиться, пока отправленное отсюда войско прибудет туда, вследствие чего выручка легко может прибыть слишком поздно. [См. Состояние России в 1650-1655 гг. по донесениям Родеса, Пер. Курца Б. Г. М., Императорское общество истории и древностей Российских. 1914, с. 126-127].
В другом донесении королеве из Москвы от 25 ноября 1652 г. Иоганн де Родес уточняет некоторые подробности, связанные с калмыцким набегом: «В моем последнем (письме) я подданнейше отметил, что калмыцкие татары еще осаждают Самару, Саратов и Камышин (Cammirzin), однако теперь это не подтверждается, но объявляется, что они сделали туда только набег и, говорят, увели с собой более 2.000 людей». [См. Ук. соч., с. 130].
В оригинале письма торговый представитель Швеции в Москве под названием Cammirzin (в первом случае он называет его Camirzin), по всей видимости, имел в виду Камышин. Во всяком случае именно так данное название перевел переводчик этого письма историк Борис Курц (1885 – 1938), который отождествлял Камышин с временным острожком, о котором в 1623 г. писал купец Федор Котов.
Грабежи 1659 г. воровских казаков на Камышенке
В середине XVII века шайки воровских казаков во время большой прибыли воды в конце апреля-начале мая очень часто использовали камышенскую переволоку, чтобы из Дона переволочь свои суда на Волгу. По всей видимости, чаще всего это происходило в те годы, когда стоялый острожек на Камышенке не ставился.
О том, насколько опасно было плавать в районе бухты реки Камышенки и прилегающих к ней островах, свидетельствуют, например, такие факты, которые на основе архивных документов приводит в своей книге А. А Гераклитов. В данном случае говорится о грабежах воровских казаков, которые они совершали около Дубовского острова, то есть недалеко от речки Камышенки (см. карту на рис. 2.): «В 1659 г. царицынский воевода отписывал в Москву: «в нынешнем государь, во 167 году, апреля в 30 день приехал на Царицын с Москвы с твоими великий государь грамоты Царицына города сын боярский Герасим Иванов сын Быков. И на Царицыне, государь, мне, холопу твоему, в съезжей избе он, Герасим, сказывал: как де он ехал Волгою рекою и как буде он об урочище о Дубовом острове и о том урочище видел он Герасим воровских казаков; и хотели де, государь, ево Герасима те воровские казаки разгромить и он де Герасим говорил тем воровским казакам, что едет на Царицын и Астрахань с твоими великого государя грамотами наскоро и ево де Герасима для того и не громили, пропустили мимо того урочища мая, государь, в 1 день приехали на Царицын сверху Волгою же рекою в стружку саратовские посадские люди Гараско Петров да Спиридонко Федотов … и в распросе сказали: ехали де они государь с Саратова Волгою рекою и как де они будут о том же урочище о Дубовом острове и их де погромили воровские казаки и одного де боярина Бориса Ивановича Морозова крестьянина Максима Лысковца на том стружку убили до смерти, а их де Тараска и Спиридонка с товарищами и с работными людьми те воровские казаки взяли со стругов и со всем животом на тот остров к себе на стан; а живота де взяли у них те воровские казаки полторы тысячи денег да мелкие рухляди на 200 рублев. И держали тех саратовских посадских людей те воровские казаки у себя на стану на острову день до вечера. И того же дни ввечеру отпустили и велели им ехать на Царицын, а на Саратов ехать им не велели для, государь, того, чтоб на Саратов про них воровских казаков вести не было. И они приехали в том стружку на Царицын и того убитого человека привезли. А на том стружке были у них в работе с Саратова саратовские стрельцы 8 человек и из тех стрельцов с того стружка трое человек саратовских стрельцов пристали к тем же воровским казакам. А по смете тех же воровских казаков, опричь саратовских стрельцов, чаят человек 50 и больше. И по тем вестям того ж числа послал я с Царицына для поиска тех воровских казаков до того урочища Царицына города сына боярского Петра Угримова да сотника стрелецкого Ив. Карево да с ними полтораста человек конных и пеших стрельцов и велел им где будут съедут они тех воровских казаков и им, смотря по людям и прося у Господа Бога милости и у Пречистые Богородицы помощи велел я поиск чинить над теми воровскими казаками сколько милосердный Господь Бог милости подаст». [См. Гераклитов А. А. История Саратовского края в XVI-XVIII вв. Саратов: Изд-во «Друкарь», 1923, с. 204]. К сожалению, в документах не сохранилось указаний, насколько удачно действовали на этот раз царицынские стрельцы и преуспели ли они в своем поиске над ворами.
Восстание разинцев, первое основание и гибель города на Камышенке
Поход Стеньки Разина за зипунами 1667 г.
Начавшаяся в 1667 г. с похода «за зипунами» крестьянская война на Нижней Волге и Дону под предводительством Степана Разина еще больше обострила криминальную ситуацию в этом и так неспокойном регионе. В «Сказании летописи о граде Астрахани» о том, как весной 1667 г. Стенька Разин со своим войском переволокся с Дона на Волгу, говорится следующее: «В лето от создания мира 7175-го, Мая месяца в 7 день, с Дону пришед к Волге реке, на Камышенке переволокся вор и изменник Стенка Разин с донскими казаками, и которые суды плыли в Астрахань Волгою рекою, все пограбил, насады, лодьи и павоски, и всякия корованы, остановил против урочища Шишкина бугра.
В то же время приплыл насад великого Господина Святейшего Иоасафа Патриарха Московского и всея России, и иныя насады. Он же злый лукавый вор, пограбя той патриарший насад и дворян его Алексея Золотарева с товарищи, велел повесити на шолге. Да с ними же повесил гостя Василия Шорина, приказщика его Феодора Черемисинова, и насады все велел пограбити, снасти, струги, завезки и лотки пограбить, чтобы впредь его на низ и в верх утеклецов не было.
Последи же того, как пограбя весь корован, поехал он на низ Волгою рекою напред, и к Царицыну приехал, и стал на Сарпинском Острове, всякия пожитки делить. Воевода же в то время был в Царицыне граде Андреи Унковского, и ничто же ему успевшу, токмо в городе Царицине отсиделся. Бе бо их воров многолюдно было». [См. Материалы для истории возмущения Стеньки Разина / [Предисл.: А. Попов]. – М., 1857, с. 241-242].
Переправившись с Дона на Волгу через Иловлю и Камышенку, разинцы начали поход за «зипунами». После чего отряд Разина блокировал Волгу ниже р. Камышенки, тем самым перекрыв важнейшую транспортную артерию России и начав захват груженых различными товарами купеческих кораблей. Получив колоссальную добычу и взяв хитростью в августе 1667 года Нижний Яицкий городок (до 1991 г. город Гурьев, ныне – Атырау), разинцы в марте 1668 года пошли в Персидский поход.
Энгельберт Кемпфер (1651 – 1716), побывавший в Персии с марта 1684 по 1685 г. в качестве секретаря шведского посольства, написал записки о персидском походе С. Разина 1668 – 1669 гг. В этих записках он со ссылкой на взятого в персидский плен казака, участвовавшего в этом походе, сообщает о том, что разинцы прежде чем отправиться с Дона в персидский поход, переволокли свои суда по камышенской переволоке: «Они (казаки – прим. В. Б.) оборудовали свои струги на глубоких местах Каспийского моря и несомненно везли с собой материалы по Волге, так как они избрали … обычный разбойничий путь через реку Камышинку, мимо Царицы[на] и Астрахани, где по пути они грабили самым вражеским образом. Эти бусы (суда – прим. В.Б.) были в человеческий рост высотой, один русский элл (Элл – мера около аршина) осадкой, 8 фатомов (Фатом – шестифутовая сажень) длиной и 1 фатом шириной». [См. Иностранные известия о восстании Степана Разина. М. Наука. 1975, с. 170– 171]
В феврале 1669 г. приказ Казанского дворца составил своего рода сводку разбойных нападений восставших за последние два года. В том числе много «воровства» было зафиксировано и в районе р. Камышенки: «1669 г. февраля. – Выпись (часть текста утрачена – прим. В. Б.) в приказе Казанского дворца по отпискам городовых воевод о действиях отрядов С. Разина на Волге и Каспийском море.
… Во 175-м году июня в 23 день (23 июня 1667 г.) писал к великому государю из Синбирска ст[ольник] князь Иван Дашков. – Во 175-м году июня в 14 день (14 июня 1667 г.) в роспросех сказали ему саратовские стрельцы и иные приезжие грабленые люди. – Объявились де на Волге реке донские и за[порожские] казаки многие люди близ … тысяч человек и государевых всяких чинов людей побивают до смерти и вешают, и всякое воровство и надругательство чинят, и патриарших, и гостей, и гостиные сотни, и всяких промышленных торговых людей насады и лодьи и всякие стр[уги] большие и малые остана[вливают], и ниже Камышенки … Волги реки никого не … пропустят для в[едома] перед себя Волгою Царицын … [за]плывать никаким судом. А в которых урочищах те воры на…стоят и какое воровство кому учинили, и от кого именем про них, воров, ведомость учинилась, и тому прислал роспросные речи. …
Во 175-м году июля в 29 день (29 июля 1667 г.) писал к великому государю из Синбирска стольник князь Иван Дашков и прислал роспросные речи о воровских казаках, а в роспросных речах написано. – Сказывал в Синбирску с синбирского насаду работник Федька Шеленок и иных чинов люди. – Донские де казаки, атаман Стенька Разин да ясаул Ивашко Черноярец, а с ними с 1000 человек, да к ним. же де пристают по их подговору волские ярышки, караван астараханской остановили выше Царицына. А как они, воры, мимо Царицына Волгою плыли, и с Царицына де стреляли по них из пушек, и пушка де ни одна не выстрелила, запалом весь порох выходил.
А стояли от города в 4-х верстах и присылали они на Царицын ясаула, чтоб им дать Льва Плещеева да купчину кизылбашского, и взяли на Царицыне у воеводы наковальню и мехи и кузнечную снасть. А дал им он, убоясь тех воров, что того атамана и ясаула пищаль ни сабля, ништо не возьмет, и все де войско они берегут. А грабили де кораван, и Васильеву лодью Шорина просекли и затопили в воду с государским хлебом ниже речки Камышенки, и насады и всякие суды торговых людей переграбили. А иных де до смерти побили, синбиренина Степана Федосьева изрубили и в воду бросили, да дву человек целовальников синбирских, которые с недовозным государевым саратовским хлебом посланы, били и мучили, жгли огнем из денег.
И знамя с патриарша насаду взял Стенька Разин, и старца патриарша насадного промыслу били и руку ему переломили, да трех человек патриарших насадных промышлеников повесили на шоглу за ноги, а иных за голову. Да Васильева приказщика Шорина повесили ж, да работных людей срубили дву человек, и знамяна и барабаны поймали. И пристали к нему, Стеньке, ярыжных по ево подговору с Васильева насаду Шорина 60 человек, с патриарша 100 человек да патриарш сын боярской Лазунко Жидовин. И подъезжая на Саратов, взяв на луговой стороне неведомо у каких людей 4 лошеди, и послали в Яицкой городок х казакам, чтобы казаки яицкие шли к ним на помочь». [См. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Сборник документов. Том I, М., 1954, с. 134-137].
Воевода Михаил Прозоровский и англичанин Томас Бейль – основатели Камышенки
Рост «воровства» побудил князя Ивана Семеновича Прозоровского, посланного в 1667 г. в Астрахань воеводой, заняться постройкой крепости в районе р. Камышенки, чтобы закрыть камышенскую переволоку для воровских казаков. С этой целью он послал на Камышенку своего брата – полкового воеводу Михаила Прозоровского. Сохранилась его «отписка» о его возвращении с Камышенки в Астрахань: «1668 г. июля не ранее 9. – Отписка полкового воеводы М. Прозоровского астраханскому воеводе И. Прозоровскому о своем скором прибытии в Астрахань (часть текста утрачена – прим. В. Б.).
Господам князю Ивану Семеновичи, князю Семену Ивановичи, Роману Мартыновичи, Евстрату Антипьевичю Михайла Прозоровской челом бьет.
В нынешнем, господа, во 176-м году (1668 г. – прим. В.Б.) по указу великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича… пошол я с ратными людьми с Камышенки к вам, господам, в Астрахань июля в… день. И астраханского, господа, сотника стрелецкого Ивана Логвинова, которого вы, господа, прислали из Астрахани на Камышенку з городовыми стрельцы, отпустил я к вам, господа, в Астрахань июля в 9 день, отшед от Камышенки верст с 30, а иду я в Астрахань наспех. И вам бы, господа, по указу великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича… о высылке навстречу ко мне астраханских служилых людей, против прежних воевод, учинить по указу великого государя. А самарские, господа, служилые люди 200 человек с Самары на службу великого государя в Астрахань высланы, и на Камышенку они приехали июля в 8 день. И я их к вам, господа, не отпустил и велел им итить с собою.
Отметка о подаче: 176-го июля в 14 день (14 июля 1668 г. прим. В.Б.) подал сотник стрелецкой Иван Логвинов». [См. ОР и ДА Института истории АН, ф. Астраханская приказная палата, картон № 105, д. № 10, на 1 листе. Опубликовано в «Актах исторических», т. IV, № 202/XI.]
Таким образом 8 июля 1668 г., то есть день, когда в только что построенную Камышенку прибыли самарские стрельцы, можно считать датой первого основания города Камышина, поскольку он впервые упоминается в дошедшем до нас документе. По новому стилю эта дата приходится на 18 июля, так что предлагаю камышанам подумать над тем, чтобы перенести празднование Дня города на эту дату.
Правда, в письме Михаила Прозоровского говорится о присылке городовых (т. е. не московских, а астраханских) стрельцов не «в Камышенку, а на Камышенку». С точки зрения современного русского языка, как известно, правильно было бы сказать «о присылке стрельцов в Камышенку», а «не на Камышенку», поскольку в первом случае подразумевается город, а во втором случае – речка. Но, судя по сохранившимся историческим документам, в XVI-XVII вв. и в начале XVIII в., когда имелись в виду небольшие низовые города, было принято писать «быть на Царицыне или на Саратове, идти на Самару, на Симбирск или на Камышенку и т.д.». А вот когда речь шла об Астрахани, тогда самом крупном городе Нижнего Поволжья, то в этом случае применялся предлог «в».
Из сообщения М. Прозоровского следует, что городовых (астраханских) стрельцов на Камышенку прислали временно, то есть на так называемую годовую службу. Очевидно, их сюда перевели на период завершения строительства нового городка. В том же Саратове в 1630 г. кроме 327 чел. постоянного гарнизона было 100 стрельцев-годовальщиков и на время «покамест острог сделают» 57 боярских детей, 114 чел. «новокрещенов» и «бусурман», присланных из городов, находящихся по Волге выше Казани, и 50 плотников. [См. Гераклитов А. А. История Саратовского края в XVI-XVIII вв. Саратов: Изд-во «Друкарь», 1923, с. 215].
Как уже ранее отмечалось, побывавший в Дмитриевске в 1771 г. астроном П. Б. Иноходцева по итогам замеров уровня волжской воды в устье речки Камышенки установил, что вода здесь прибывала, начиная с 11 апреля по 24 мая. Вполне естественно, что в зависимости от погодных условий график повышения уровня воды мог несколько сдвигаться, но в целом был примерно таким. Поэтому можно предположить, что с целью не допустить переволоки воровских казаков перед астраханскими стрельцами весной 1668 г. была поставлена задача прибыть к речке Камышенке примерно к середине апреля. И по всей видимости, не будет большой ошибкой предположить, что в апреле-мае 1668 г. могли начаться первоначальные работы по строительству города Камышенки.
Сохранилась опись дел, относящихся к периоду правления царя Алексея Михайловича (1645-76 гг.), которые Приказ тайных дел должен был по указу царя Федора Алексеевича (1676 – 82 гг.) от 6 октября 1676 г. вернуть в соответствующие приказы. Но поскольку этот указ в отношении приказа Казанского дворца, в ведомственном подчинении которого находились Астрахань, Саратов, Царицын, Симбирск, Самара, Камышенка и другие низовые волжские города, не был выполнен, то 27 августа 1683 г. аналогичный указ повторно был издан от имени совместно правивших царей Иоанна (1682 – 96 гг.) и Петра (1682 – 1725 гг.) Алексеевичей. К сожалению, последний указ чиновниками на сей раз был выполнен: дела в приказ Казанского дворца были переданы, где они во время пожара в 1701 г. сгорели вместе со всем архивом этого приказа. Именно поэтому у историков сегодня очень мало источников по истории низовых волжских городов за период XVI-XVII вв.
Так вот, согласно составленной описи передаваемых дел, среди них была и «Роспись на листу, сколько на Царицыне, и на Камышенке, на Саратове и на Самаре ружья, и зелья и пушечных запасов». [См. Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией. СПб. 1907, том 21, с. 609-610]. Эта роспись о запасах дается в росписи дел без даты, но ее можно приблизительно датировать второй половиной 1668– первой половиной 1670 г., то есть двухлетним существованием Камышенки до ее разрушения разинцами.
Видел недавно построенную Камышенку и голландец Ян Стрейс (1630—1694), сбежавший в юности от строгого отца, который все же успел обучить его «хорошему ремеслу, парусному делу». В 1668 г., узнав, что уполномоченный московского царя набирает людей для плавания по Каспийскому морю, Стрейс нанялся парусным мастером и отправился со шкипером из Амстердама Давидом Бутлером, назвавшим себя капитаном, в далекую и неизвестную ему Московию. На казенном корабле «Орел» Ян Стрейс вместе со своими соотечественниками совершил путешествие вниз по Волге до Астрахани.
В 1676 г. Ян Стрейс издал книгу о своих путешествиях, в которой, в том числе описал и еще не разрушенную разинцами Камышенку: «16-го (августа 1669 г. по старому стилю – прим. В.Б.) миновали мы протекающую по левую сторону реку Еруслан (Ruslan) и напротив нее круглую гору Ураков Каруль (Urakofskarul), по имени погребенного там татарского князя Урака (Urak). Река эта впадает в Дон, или Танаис (Tanais), где живут донские казаки и где родина и местопребывание Стеньки Разина (Stenko Radzin). При устье Еруслана (Стрейс перепутал реку Еруслан с Камышенкой – прим. В.Б.) русскими построен в 1668 г. новый город, названный Камышинкой (Kamuschinka), чтобы пересечь дорогу донским казакам, которые на своих судах переправлялись из Еруслана в Волгу и занимались крупным разбоем. Но это мало помешало хищникам; они нашли другие пути к Волге, провозя свои суда, которые весьма легки, на колесах семь миль сушей по хорошей ровной дороге». [См. Ян Стрейс. Три путешествия. Пер. Э. Бородиной). М. ОГИЗ-Соцэкгиз. 1935, с. 191]
В «копии с письма, писанного на корабле его царского величества под названием «opел», стоявшем на якоре под городом Астраханью, 24 сентября по старому стилю 1669 г»., Ян Стрейс сообщает еще некоторые детали о Камышенке: «16-го (августа 1669 г. – прим. В.Б.) мы простились с Казанью и прошли мимо городка, называемого Камышинка (Camuschinka), выстроенного за год перед тем по приказу и повелению его царского величества и обнесенного валом и шанцами по указаниям английского полковника Томаса Бейля. Этот городок расположен на реке Камышинке и построен для отражения донских разбойных казаков, которые по этой реке пробираются к Дону». [См. Ян Стрейс. Три путешествия. Пер. Э. Бородиной). М. ОГИЗ-Соцэкгиз. 1935, с. 350]».
Взятие и сожжение разинцами Камышенки
Вернувшись с персидского похода, отряд Степана Разина 22 августа 1669 г. появился вблизи Астрахани. Местный воевода, взяв со Степана Разина «крестное целование», что тот сложит оружие и вернется на службу к царю, пропускает отряд вверх по Волге. В начале октября 1669 года Разин со своим отрядом вернулся по царицынской переволоке на Дон, где воровские казаки остановились у Кагальницкого городка.
15 мая 1670 г. Степан Разин с отрядом в 7 тысяч человек осадил Царицын, вскоре сдавшийся ему без боя. После чего Разин оставляет в Царицыне 1 тысячу человек и идет к Астрахани, по пути осадив Черный Яр. Под стенами этого небольшого укрепленного городка Степан Разин готовился к битве с царскими войсками под командованием воеводы С. И. Львова, но они от битвы уклонились, в полном составе перейдя к атаману. Вместе с войском С. И. Львова на сторону восставших перешел и весь гарнизон Черного Яра. В ночь на 22 июня 1670 г. после трехдневной осады разинцам сдалась и Астрахань, где вспыхнуло восстание. А еще раньше: утром 22 июня 1670 г. прибывший из Царицына отряд разинцев захватил без боя и крепость Камышенку.
В своей книге Ян Стрейс рассказывает о том, как разинцы захватили крепость Камышенку: «Теперь он ждал к себе еще больше народа и лодок и, чтобы избавиться от трудов и усилий при перетаскивании их по суше, задумал взять врасплох город Камышинку, лежащий при устье реки Еруслана, откуда он без всякого труда мог переправиться с Дона на Волгу. Но так как тот город был хорошо укреплен и мог с легкостью защищаться, то он решил взять его хитростью и обманом. Он снарядил самых видных перешедших к нему русских солдат, отправил их туда как бы по приказу царя для того, чтобы охранять Камышинку от Стеньки. Среди них не было ни одного казака, чтобы все дело казалось правдоподобней. Таким образом отряд этот с радостью впустили в город. Войдя туда, они ночью валяли все ворота, входы и сторожевые посты и склонили гарнизон на свою сторону. Затем они схватили наместника, высшее начальство, зарубили их саблями и бросили в Волгу. После того выстрелом из пушки подали знак, что все сделано, на что Стенька тотчас же отправил туда несколько тысяч казаков, которые сменили русских. [См. Ян Стрейс. Три путешествия. Пер. Э. Бородиной). М. ОГИЗ-Соцэкгиз. 1935, с. 205-206]