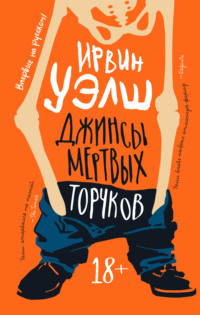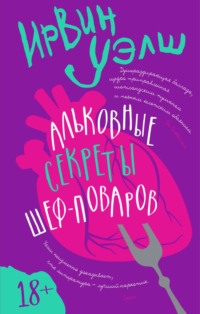Полная версия
Резьба по живому
«Шон… Какого хуя…»
– Я пока больше ничего не знаю, – говорит Элспет с грустью, досадой и болью в голосе. Новость, конечно, шокирует, но Джима Фрэнсиса больше поражает интонация, ведь они с сестрой не очень хорошо расстались. – Мне ужасно жаль…
Мозг Джима обжигают вопросы, которые всплывают в голове, соревнуясь между собой за его внимание. Он втягивает воздух через нос, наполняя легкие. Вспоминает Джун – бабу, от которой у него Шон и другой пацан, Майкл. Тогда она показала ему первенца с какой-то демонстративной гордостью. «Вот видишь? Видишь, на что я способна?» Он почувствовал странное самодовольство, которого никак не мог выразить, а больше ничего. Потом пошел в паб, купил всем бухла и нажрался сам. Внезапно сознание опаляют образы: лицо младенца Шона, потом лица Джун и всех парней в пабе. Наконец – лицо Элспет, его сестры, которая сейчас молчит в трубку. Как она гордилась тогда, девчонкой, что стала теткой. Казалось, все они из какой-то другой жизни, прожитой кем-то другим. Он смотрит на свое загорелое лицо в зеркале на стене. Мелани вертится сзади, отражается ее напряженное лицо. Когда родились Грейс и Ева, все было иначе. Он чувствовал себя каким-то маленьким, зато частицей бескрайнего космоса и, закружившись в калейдоскопе эмоций, плакал и сжимал ее руку.
– Ты еще тут? – Голос Элспет в трубке.
– У тебя есть номер Джун?
Элспет медленно произносит цифры, которые он свободной рукой вбивает в айфон.
– Ясное дело, приеду. Наберешь мне, если будут подробности?
– Конечно наберу.
– Спасибо… – выкашливает он и кладет трубку. – Шон, – говорит он Мелани. – Его больше нет.
– Господи, – Мелани прижимает ладонь ко рту. – Как это случилось?
– Нашли мертвым в Эдинбурге. – Голос у Джима бесстрастный и ровный. – Мне надо смотаться туда на похороны, ну и выяснить, что случилось, ясное дело.
– Конечно, – потрясенно говорит Мелани, обнимая его; он напряжен: свитер надет как будто на бронзовую статую. – Что сказали?
– Он мертв – это все, что я знаю.
Она расслабляет руки, но не отпускает его. Состояние Джима напоминает ей, как она впервые попыталась его обнять, когда они только сошлись: эта страшная жесткость во всем теле.
– Мне так жаль, что я никогда его не знала. И Майкла тоже.
Джим молчит, невозмутимый и неподвижный, как его скульптуры. Мелани чувствует, как его напряжение просачивается в ее тело и оно тоже затвердевает. Разжав объятия, она опускает руки.
– Ты же ни во что не будешь там ввязываться?
Джим категорически качает головой.
– Во что там ввязываться? Просто хочу выяснить, что случилось, съездить на похороны, – говорит он и добавляет другим голосом: – Глянуть, кто искренние слезы льет, а кто крокодиловы. – И он идет в небольшой кабинет, садится за компьютер и выходит в Сеть.
– Джим…
– Ты вот говоришь, что никогда его не знала. Я тоже, – бормочет Джим, и его карие глаза затуманиваются. – Мелким он был для меня просто развлекухой. Не играл никакой роли. Потом я сидел в тюрьме. С ним и с его братом я вел себя неправильно, – говорит он почти непринужденно, как будто беседует с кем-то другим. Это смущает Мелани, он замечает и понижает голос. – Когда у меня появились дети, я решил, что никогда не буду вести себя с ними так, как мой старик вел себя со мной. И сдержал слово: я вел себя еще хуже, – откровенно признается он, переходя на сайт «Американских авиалиний», а затем поворачивается к Мелани и говорит с нажимом: – Но с девочками я другой.
– Конечно другой, ты мировой папа, – говорит Мелани, возможно, настойчивее, чем следовало. – Теперь все иначе. Ты был еще слишком молод, ты…
– У меня была зависимость от насилия, – холодно констатирует Джим, вбивает информацию и достает кредитную карточку. – Но теперь вся эта дурь у меня под контролем, потому что ни к чему прикольному она не ведет. Только на нары. Сыт по горло.
– Да. – Мелани смотрит на Джима, сжимая его ладонь.
Она пытается отыскать его – того мужчину, за которого вышла замуж, которого увезла с собой в Штаты. Но видит лишь шотландского уголовника по имени Фрэнсис Бегби, с которым познакомилась много лет назад.
6
Курьер 2
Они приходили в пятницу вечером и резались в карты, пока маманя играла в бинго. Там были дедуля Джок, Карми, Лоузи и пацанчик намного моложе – Джонни Твид по прозвищу Красавчик, единственный, кто давал мне бабла. Отводил меня в сторонку и всучивал фунтовую бумажку или пятьдесят пенсов и малехо мне подмигивал, мол, это чисто между нами. Наглая, дерзкая четверка, они расхаживали, как индюки, в длинных пальто «кромби» и мягких фетровых шляпах. Я тащился от них от всех, и мой брат Джо тоже.
Батя бухал с моим дядькой Джимми. Он всегда нажирался как скотина. Маманя выгоняла его, бывало, на годы. Он, когда возвращался, какое-то время не пил, но это продолжалось недолго. Потом пропадал с концами. Говорили, он типа вкалывает на буровой, но я-то знал, что он в тюряге, ну или путается с какой-то тупой лярвой. Потом он снова раз вернулся и успел заделать мамане мою сестренку Элспет.
Я всегда ждал этих пятничных вечеров, хоть и было в них что-то стремное. Дедуля Джок растягивал пивко, которое редко допивал до конца, и прихлебывал виски. Всего один стакан. Он смотрел на двух своих сыновей, как они бухают, развалившись на стульях, пердят и горланят, и даже пацаном я чувствовал, как он закипает от досады. Думаю, это нас и объединяло.
Маманя терпеть не могла и его, и троицу его кентов. Называла их бандюками. Тогда, в конце семидесятых, они были из последних, кто вкалывал на загибавшихся доках. Все они, кроме Джонни, работали там с самой войны и скоро должны были выйти на пенсию. Трое старших имели бронь по профессии и в боевых действиях не участвовали. Меня всегда прикалывало, что говнюки, которых все считали крутыми, прикрывались своей работой, лишь бы не пиздиться с нациками. Но на самом деле это было ради личной выгоды.
Помню, мать однажды мне сказала:
– Они забирали все, что предназначалось для рабочих. Воровали за-ради себя. Военная надбавка – она ж для всех была, а не только для этих ворюг.
Это было малехо лицемерно. Я смотрел на барахло у нас дома и сравнивал с домами босяков. У нас было все, пока старый не пробухал. И понятно, откуда оно взялось. Я ни разу не слышал, чтоб маманя собиралась это вернуть.
Но она пыталась оградить меня от дедули Джока и его кентов. Мне было тринадцать, и я учился в первом классе, когда они ко мне присмотрелись. На моего брата Джо, на четырнадцать месяцев старше, им было поебать, и это хорошо. Это придавало мне весу.
Тогда еще мало что придавало.
Я никак не мог научиться читать в начальной школе, и в средней меня определили в класс для даунов. Буквы и слова на странице ничего не значили – они были просто смазанным шифром, который не получалось взломать. Прошло много лет, и мне поставили диагноз – дислексия. Но тогда учителя и дети-зазнайки смеялись над моей тормознутостью и тупостью. Меня просто мутило от бешенства. Я сидел за партой и напряженно сопел, чуть не вырубаясь от злости. Потом я узнал, как остановить этот смех, – надо просто выпустить гнев наружу, превратить смех в кровь и слезы.
Поэтому было приятно, что тебя ценят дедуля Джок и его друганы – эти самоуверенные ушлые мужики, которых люди, по ходу, боялись и уважали. Только вот Джонни Твида я никак не мог прочухать. По возрасту он был ближе к бате, и я всегда думал, что ему надо корешиться с ним, а не с дедом. Как ясно по кликухе, Красавчик Джонни был смазливым чуваком с большими белыми зубами и короткими темными волосами, похожими на банную щетку. От него пахло крепким средством после бритья, куревом и спиртным – как и от всех мужиков в детстве, но Джонни всегда был как-то поароматнее.
Школу я ненавидел и подрабатывал рассыльным в «Р. и Т. Гибсон» – продуктовом магазине в Кэнонмиллзе. Я ездил на большом велике с черной металлической рамой, в огромную корзину спереди были напиханы коробки с продуктами. Я крутил педали этой тяжеленной махины на людных улицах, усердно работал тощими ножонками, только чтоб удержать ее вертикально. Еще я расставлял товары на полках в магазе. Хозяина звали не Гибсон, а Малколмсон – визгливый раздражительный мудозвон. Малколмсон вечно строил меня и Гэри Гэлбрейта – еще одного школяра, который там работал.
Однажды в субботу утром дедуля Джок зашел в магаз вместе с Карми. Уилли Кармайкл был молчаливым шкафом – руки как лопаты, вечно ошивался при дедуле Джоке. У Джока была фирменная кривая ухмылка, которую я теперь называю «ехидной». Он впился глазами в Малколмсона, и тот нервно ерзал, пока они разговаривали, и визжал еще пронзительнее.
– Лииииитские докеры, само собой, Джок, мы хотим, чтобы лиииитские докеры были довольны!
Мудацкая улыбка не сходила с дедулиного хайла. Они с Карми отвели Малколмсона в сторонку и что-то ему шепнули. Я держался подальше, расставляя банки с резаными ананасами на полках, но видел, как глаза Малколмсона стали еще больше и шире, а глаза Джока и Карми – узенькими, как щелочки. Потом Джок сказал мне:
– Смотри, пацан, не волынь тут и слушайся мистера Малколмсона, усек?
– Угу.
Потом они вышли с магаза. Малколмсон некоторое время повторял «нихуясе», но потом посмотрел на меня со странным восхищением и страхом. Сказал нам, что теперь доставкой будет заниматься в основном Гэри Гэлбрейт, а я буду расставлять товар внутри, в тепле. Это была хорошая новость для меня, но не для Гэри. На улице стоял блядский дубак. Но я должен был совершать всего одну доставку три раза в неделю: коробка фруктов и овощей для литских докеров. Я ни разу не видел, чтоб дедуля или кто-то из его дружбанов съели хотя бы один фрукт или овощ, если не считать картофана.
На стреме стоял уебан по имени Джон Стрэнг, в толстых очках и с зализанными волосами. Все знали его как буйного психа, который отмотал срок в Карстэрсе – учреждении для невменяемых преступников. Мостовая булыжная, что было не важно при въезде, но выезжал я из их хазы с коробкой, наполненной тяжелыми бутылками бухла, которые гремели и звякали. Стрэнг говорил «нихуясе»: ясный перец, его окучивали Джок и остальная братва, но, если даже просто пройти мимо этой вылупившейся рожи, становилось как-то не по себе. Потом я катил обратно в магаз и сгружал бутылки в контейнер на задах. Джонни приезжал позже в фургоне и забирал. Я узнал, как они работают, когда однажды ночью засел в кустах у тропы вдоль Вод Лита и за ним подсмотрел.
Хотя мне было по приколу ходить к докам и встречаться там с дедулей Джоком и его кентами. Понятно было, что они такие наособицу, а другие докеры их не переваривают. Зависали они в этой кирпичной постройке у старого сухого дока, который отжали под свою малину. Стояла постройка в восточной части, за ней большой проволочный забор и промышленные корпуса, от остальных докеров вдали. Думаю, обе стороны это устраивало. «Хаза», как они ее называли, явно была раньше складом сырья; внутри деревянные стол и стулья, да еще полка с какими-то чистящими матерьялами. Там горел свет, не было окон, помещение проветривалось только через вентиляционные каналы в кирпичах вверху и внизу и наглухо закрывалось большой деревянной дверью, которую оставляли малехо приоткрытой, пока мы были внутри.
Я сидел с ними, пил из кружки чай, нагретый на бутановой плитке, которую они всегда включали зимой, и слушал их треп. Пока я был малой, их терки казались мне чудны́ми, они часто говорили загадками, употребляли слова и выражения, которых я не догонял. Они как будто общались на другом языке, каким-то шифром – типа пережитки прошлого.
Может, они нихуя и не знали за то, что «Джэм» занимал верхние строчки хит-парадов, зато разбирались в людях и их слабостях.
– Глянь на своего брата Джо, он же ссыт тебя, – сказал мне раз на хазе дедуля Джок. – Кумекает, что слабей тебя.
Это открытие сразило меня наповал. Джо постоянно меня чморил – колошматил, превращал мою жизнь в ад. Но дедулина заява почему-то выглядела правдоподобной. Когда Джо меня пиздил, в глазах у него была паника, как будто он боялся ответки, которой никогда не получал. Но, вооружившись этим врубом, я решил, что теперь-то она наступит. Когда он ее не ждет. Этот старый сучара Джок чуял в человеке слабину, как акула чует кровь в воде, и все разглядел. Все догнал.
Я, когда был помельче, всем рассказывал эту историю за себя и за Джо – историю о переломном моменте. Хоть я и присочинил, будто это батя отвел меня в сторонку и подговорил хуйнуть Джо по хайлу кирпичом, пока он спал. Вот каким я хотел видеть отца – чтобы у него была такая вот жажда власти. Но это был не батя. Это был дед. Старина Джок.
Но самое главное, что это был хавальник Джо, а кирпич – у меня в руке. Он проревел всю ночь, кровь стекала на подушку. Я пересрал, но был бодрячком, чуть ли не кайфовал от собственного могущества. С тех пор мы оба знали, какой между нами счет.
7
Сестра
Полет расплылся светящимся, замысловатым пятном информации. В наушниках горланили аудиокниги, дополненные теперь «киндлом». Поразительное чувство свободы. Можно увеличивать текст и сосредоточиваться на отдельных словах, чтобы они из-за близости не слипались все в кучу. Он научился менять шрифты: некоторые читать было легче, и эксперименты принесли плоды. Одновременно с актерами, читавшими текст, он учился распознавать слова на странице. Постепенно горькое разочарование от неудачи сменилось возбуждением от учебы. Насмешки учителей, хихиканье одноклассников, разъедающий стыд и безудержная, неистовая ярость – все это теперь было про другого человека из другого времени.
Но в паспорте стояло все то же имя – Фрэнсис Джеймс Бегби. При этом в профессиональной среде он пользовался псевдонимом Джим Фрэнсис, а жена в основном называла его Джимом. Замена произошла легко и просто: по чистой случайности фамилия Мелани совпала с его именем, а друзья в колледже часто называли ее «Фрэнки». Тем не менее ей польстило, когда он сказал, что хочет носить имя Джим и что после рождения Грейс все они возьмут фамилию Фрэнсис.
– Не хочу, чтоб из нее выросла Бегби, – подчеркнул он.
Но как бы его там ни называли, он даже не думал, что когда-нибудь снова вернется в Шотландию. Этого просто не было в его органайзере, и он поклялся, что приезд на похороны матери станет его последним визитом. Он не был близок с братом и сестрой или с сыновьями и считал, что они там заняты чем всегда. Но он и мысли не допускал, что они там возьмутся умирать. Так что собственная нутряная реакция его не удивила, но шокировало, насколько она глубока.
Что же касается дружбы с закоренелыми беспредельщиками, тут товарищество и даже подлинная симпатия возможны, только если строго придерживаться субординации. Но когда она нарушается, это ведет к катастрофе, и далеко не всякие отношения выживают, если даже удается выжить обеим сторонам. В любом случае его старые друзья вели жизнь, которая уже совсем его не привлекала.
Он поговорил с Джун, быстро учуяв сквозь сдавленный плач и дурман антидепрессантов, что главная ее цель – заставить его оплатить похороны, что он с готовностью и предложил. Она ввела его в курс дела: по анонимной наводке Шона нашли на квартире в Горги, где он истек кровью после множества ножевых ранений. Полиция решила, что там на него и напали, но свидетелей не было, а шума борьбы соседи не слышали. Хозяин сдавал квартиру известному барыге, который сейчас мотал срок в тюрьме. Никаких доказательств торговли наркотой, и, насколько всем было известно, помещение долго пустовало до того, как туда вселился Шон.
Затянувшийся полет оказался утомительным, а пересадочный рейс из Хитроу задержался. И вот он снова в Эдинбурге, измочаленный и задубевший, в легкой кожаной куртке, выкатывает средних размеров красный чемодан, набитый в основном футболками, носками и трусами. Когда он выходит из здания аэропорта, его насквозь продувает ветер с Северного моря. Надо было прихватить одежду по сезону. Он достает свой айфон, когда выскакивает сообщение от телефонного оператора, который лаконично сообщает, по каким грабительским тарифам можно пользоваться его услугами за рубежом. Затем приходит эсэмэска от Мелани, поприятнее:
Люблю!!! ХХХ
Он отвечает:
Добрался блогополучно! Люблю!!! ХХ
Он смотрит испуганно: до него доходит, что слово «благополучно» написано неправильно. Потом, добравшись до стоянки такси, к своему удивлению, мгновенно узнает таксиста по курчавым волосам. Ну а водитель узнает его.
– Здоров, чувак! Ты ж Франко, угу? Старый кореш Больного!
– Терри.
Франко, как его всегда будут называть в Эдинбурге, натянуто улыбается. Джус Терри – один из городских персонажей, приятно увидеть знакомое лицо. Последний раз, когда он слышал о Терри, тот еще снимал холостяцкие видосы со своим старым дружком Больным, а в свободное время таксовал.
– Читал за тебя. У тебя всё пучком. – Терри скалится, но потом сразу морщится. – Это самое… слыхал за твоего малого. Жалко до крику, чувак. Молодой пацан, и все такое.
– Спасибо, но я с ним типа не контачил.
Терри быстро обдумывает ответ, пытаясь понять, правда это или всего лишь стоическая бравада.
– На похороны сюда, угу?
– Угу.
Доставив Франко по нужному адресу в Мюррейфилде, на улице с мешаниной малоэтажек, Терри дает ему визитку.
– Если будет нужно таксо, тока свистни, – подмигивает он. – Я не так часто вешаю табличку «свободен», если просекаешь фишку.
Франко берет визитку и кладет во внутренний карман, выходит из такси, прощается и смотрит вслед умчавшемуся Терри. Сквозь жутковатую утреннюю мглу он видит внушительный стадион регби. Потом, катя за собой красный чемодан, шагает по короткой подъездной дорожке к оштукатуренному дому, где живет его сестра со своим мужем и двумя сыновьями. Он стучит в дверь, и ему открывает Элспет с высокой копной волос на голове, скрепленной невероятным арсеналом булавок и заколок. Она тут же обнимает его, крепко прижимает к груди:
– Ой, Фрэнк… Прости… входи, ты, наверно, умаялся…
– Я в норме, – мягко говорит он, хлопая ее по спине.
Они перестают обниматься, Элспет впускает его в дом, в долгожданное тепло, и предлагает пиво, от которого он наотрез отказывается:
– Ни капли в рот не беру.
– Прости, – извиняется она слегка раздраженно, но потом исправляет свою ошибку. – Все такой же трезвенник?
– Уже почти семь лет.
Элспет мешает себе джин с тоником, хотя еще только утро.
– Классно выглядишь, – произносит она, садясь рядом.
Фрэнк Бегби не может сказать того же о своей младшей сестре. Она отяжелела, лицо опухло.
– Пилатес, – улыбается он.
– Гонишь!
– Угу, это по части Мел. Просто хожу в боксерский клуб четыре раза в неделю.
Элспет смеется, на глазах сбрасывая лет десять.
– Не представляю, как бы ты занимался пилатесом, но это ж Калифорния – мало ли чего!
– Ну, случалось, кажися, и не такое.
Словно признавая, что в этом есть доля истины, Элспет спрашивает:
– Так ты у нас щас художник, угу?
– Говорят.
Щурясь, она поднимает бокал к губам и отпивает.
– Ой да, читала за тебя в «Скотланд он сандей». Все эти голливудские звезды хотят с тобой корешиться. – Элспет поднимает брови. – А Джорджа Клуни когда-нибудь встречал?
– Угу. Видел разок.
– И какой он?
– Мне понравился, – признается Франко. – И потому я считаю, что некультурно говорить о людях за глаза.
От его пафосного ответа Элспет коробит.
– С каких это пор тебя-то стала заботить культура?
– Никада не поздно начать.
Элспет как будто задумывается над этим и воздерживается от колкого замечания, которое вертится на языке.
– Страшно жалко Шона, – начинает она, а затем суровеет. – Но надо выложить карты на стол. Просто чтоб мы оба понимали, что к чему.
Франко поднимает одну бровь:
– Я – за.
– Ты можешь заливать всем за эту твою «великую реабилитацию», – Элспет презрительно ухмыляется, – но меня-то ты не проведешь. Я знаю тебя как облупленного. В курсах, что ты за жук.
Она смотрит на него, ожидая реакции.
Ноль эмоций. Похоже, брат не то чтобы не обиделся, а, скорее, не услышал, что она там сказала.
– Но все равно мы родня, – вздыхает она. – Так что милости просим, можешь перекантоваться в комнате для гостей, пока похороны не пройдут.
– Премного благодарен.
Элспет щурится:
– Но хоть раз выйдешь за рамки – мигом вылетишь за дверь. Я серьезно, Фрэнк. У меня тут парни.
Фрэнк Бегби чувствует, как внутри поднимается что-то до боли знакомое. Ему хочется встать и послать ее нахуй, а потом просто уйти из этого унылого, упорядоченного пригородного дома с его безликой бежевой обстановкой и мебелью. Но он втягивает воздух в легкие и смотрит на двух фарфоровых собачек на каминной полке. Это материны, перевезли со старой квартиры. Потом он поворачивается и медленно кивает:
– Понимаю.
Кажется, Элспет сбивает с толку этот покорный ответ, и она явно сглатывает слюну.
– Знаешь, Шон заходил сюда пару раз.
– Угу?
– Поперву все шло хорошо, приятно было его повидать. – Она улыбается, но затем мрачно качает головой. – А потом, когда он покатился по наклонной, приходил сюда тока деньги клянчить.
– Я все верну.
– Дело не в этом. – Элспет поднимает бокал. – Я не хотела, чтоб он ошивался вокруг Томаса и Джорджа. Они хорошие ребята. Но брали с него пример – он ведь старше и их двоюродный.
Фрэнк пытается все обмозговать. Шон, его племяши, этот дом в Мюррейфилде. Довольно сносный, но, конечно, никакого сравнения с его собственным роскошным доминой в Калифорнии, размышляет он с некоторым удовлетворением. Когда он был пацаном в Лите, Мюррейфилд казался курортом для миллионеров, а сейчас, под его критическим взглядом, выглядит (по крайней мере, эта его часть) обычным серым, убогим райончиком, куда совершенно незачем стремиться. Но голова уже трещит от статики, и он зевает во всю глотку.
– Слышь, у меня слегонца десинхроноз. Ничё, если я прикорну малехо?
– Не вопрос, – говорит Элспет и проводит его в комнату для гостей.
Франко раздевается до трусов и залезает под пуховое одеяло. Наслаждаясь возможностью лечь и растянуться после тесного самолета, он погружается в беспокойный сон с обрывистыми сновидениями. Проходит пара часов, и он просыпается от шума с первого этажа. Вбив номер Терри в айфон, он делает небольшую разминку, после чего немного боксирует с тенью в зеркале во весь рост, отжимается сто пятьдесят раз, а затем принимает душ.
Мальчики, Джордж и Томас, десяти и девяти лет, вернулись из школы. Они смотрят на него в полном восторге. После светских любезностей о полетах и Америке Джордж решается сказать:
– Мама говорила, ты в тюрьме сидел.
– Джордж! – шипит Элспет.
– Не, всё норм, – улыбается Франко. – Да, сидел.
– Ничёссе… наверно, чё-то плохое сделал, да?
– Чё-то плохое, – подтверждает Франко, – но больше дурацкое. Из-за этого на нары и попадают. Но вы, по ходу, пацаны умненькие и такими глупостями заниматься не будете. Ну, как там в школе?
Ребята охотно рассказывают о своих буднях, и, болтая с ними, Франко поражается, как сильно он на самом деле любит племяшей. Даже Элспет веселеет, и он показывает ей фото своих девочек на айфоне.
– Красивые, – говорит она чуть ли не с осуждением, как бы подразумевая, что рано или поздно он их погубит.
Приходит с работы Грег, муж Элспет. Он немного набрал вес, а волосы поредели.
– Фрэнк! Рад видеть. – Он протягивает руку и крепко пожимает ладонь Франко. – Хотя и жаль, что по такому случаю, – хмуро поправляет он себя.
– Ага, я тебя тоже, спасибо, – выдавливает Франко, думая о том, что Грег похож на классического британского менеджера среднего звена: уставший, затюканный и придавленный гнетущим осознанием того, что он достиг своего потолка и следующей крупной переменой в жизни будет еще далекий выход на пенсию или, в худшем случае, не такое уж далекое сокращение. – Как работа?
– Ой, не спрашивай, – качает головой Грег.
«Больно надо мне тебя спрашивать», – думает Франко.
Но Грег дружелюбен, как и его сыновья, и ему охота поболтать.
– Ходят слухи о слиянии. Ничего хорошего, Фрэнк. – Он выглядывает в окно и, тяжело вздохнув, повторяет: – Ничего хорошего.
После ужина (Франко поражает, что сам он тоже называет его ужином, а не «чаем») мальчики расходятся по своим комнатам, а Грег серьезнеет и попивает виски, пока Элспет загружает посудомоечную машину на кухне.
– Просто восхищаюсь тобой, Фрэнк, – как ты изменил свою жизнь с помощью искусства. Наверно, получаешь большое моральное удовлетворение.