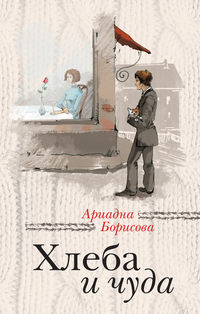Полная версия
Манечка, или Не спешите похудеть (сборник)
На сцену в нарастающем музыкальном торнадо вырвался материализованный смерч. В вихре рук, ног, сверкающего колеса мелькали напряженные в «чи-из» белоснежные улыбки близнецов.
«Снежинки… симметричны. Они – совершенство».
– Здешняя коронка, – объяснил Генка со снисходительностью экскурсовода. – Номер «Зеркало».
Бреда и зрелищ! Зрелище было завораживающим. Колесо распалось на две закрученные спиралями фигуры, настолько одинаковые, что выверенная до мизинцев синхронность заставила зал тихо ахнуть. Танцоры повернулись лицами к зрителям, и узор движений рассыпался по всей сцене, а спустя миг пружинистые тени полетели в противоположных направлениях. Когда же близнецы вновь повернулись лицом друг к другу, их вкрадчивая грация растворилась в таком каскаде зеркальных па, что мне смертельно захотелось кинуть что-нибудь тяжелое и вдребезги разбить одно из мастерски сымитированных отражений.
Я слишком долго терпел начальственные замашки близнецов. Я так давно их ненавидел.
Машинально хлебнув из рюмки, я осклабился в сторону девушки с воротником из перьев, выдранных из хвоста нелетающей южной птицы, и вдруг понял, в чем измеряется терпение. Оно измеряется в рюмках. После энного количества выпитых рюмок терпение кончается. Я, по всей вероятности, приступил к завершению индивидуального подсчета.
Я смотрел на Катю, не отрываясь. А она, не отрываясь, смотрела на сцену. В этом, собственно, не было ничего удивительного. Братья владели вниманием всего зала. Я и не знал, что они умеют танцевать. ТАК танцевать. И снова задал себе мучительный вопрос, терзающий меня с тех пор, как не видел Катю: почему, когда я пришел к ней на второй день, она заплакала и сказала, что всегда меня презирала?..
Генка дернул за рукав:
– Не парься, Вовчик, эта рыжая – ихняя штучка. Говорят, оба пользуют.
Стало нечем дышать. Я рванул удавку галстука и потерял сразу и терпение, и сознание. Найдя последнее в какой-то момент, я обнаружил, что Генка с лицом, залитым кровью, дубасит меня в бога-душу-мать и орет благим матом. Оказалось, я стукнул приятеля по башке бутылкой «Абсолюта», хотя, будучи в автопилоте, совсем этого не помнил.
Я и дальше мало что помнил. В память запали только мудреные Генкины словообразования, возмутившие меня до глубины души. Ну, не люблю я грязи, и в словах не люблю. Поэтому я с силой двинул кулаком в воздух и попал во что-то мягко-упругое, с хрустким и одновременно сочным звуком подавшееся под костяшками пальцев. А после уже не было ничего. Бездна и вакуум. Остатки личного гомо сапиенса отреклись от меня самым предательским образом.
Сознание включилось дома в туалете. Я стоял на коленях перед унитазом и выхаркивал дыхалку вместе с уксусной эссенцией желудка. Мой выпускной костюм был испачкан кровью, за шею меня поддерживал один из близнецов. Спьяну я не разобрал, кто, Юра или Дима. На его (их) месте я бы воспользовался редким случаем близости моей шеи и сдавил бы ее так, чтобы блевотина застряла в ней навсегда. Мне ли было не знать: они меня тоже ненавидят.
– Поураганил, дурашка, – Дима (Юра) ласково усмехнулся.
Юра (Дима) бросил на стол ключи от квартиры:
– Извини, пришлось в карманах у тебя порыться, родителей-то дома нет.
«Какое счастье», – подумал я. Не о карманах, а о родителях.
– Генку не бойся, – это снова Юра (или все-таки Дима?), – он тебя не тронет, мы договорились.
Я дернулся:
– С чего это я буду его бояться?
– Ну, пока, – выдохнули они дуэтом и ушли.
Инцидент утрясся в сто раз лучше, чем ожидалось… Впрочем, как сказать. Может, в сто раз хуже.
На скуле скромно сиял не очень броский синяк, все остальные кровоподтеки и ссадины скрывала одежда. Едва я вышел из дома в магазин за хлебом к обеду, ко мне подступил человек, явно принимавший участие в нешуточных боях: голова перевязана, лицо опухшее, на переносье марлевая нашлепка.
Генка. Я сломал ему нос, чуть не пробил черепушку, а приятель смотрел на меня с подозрительным уважением. Даже с умилением, почудилось.
Нет, я, конечно, понимаю: человека, который тебя побил, тем более если ты – солдат, а он – пороха не нюхавший пацан, невольно начинаешь уважать. Но не до такой же степени. И потом, Генка мне тоже нанес приличные увечья. За грудь укусил, даже рубашка в том месте порвалась.
Сначала я в легком шоке решил, что он – садо-мазо или, не дай бог, гомик. Смазливый же на физиономию. За грудь почему-то укусил, не за руку, к примеру, и это его панибратское обращение – Вовчик, Вовчик… Я плохо знал Генку, мы задружились на ремонтной почве, но другом он мне не был. У меня после близнецов и Кати не было друзей, и вообще никогда не было. С Генкой мы беседовали по делу: амортизаторы, движок, карбюратор, прокачка. Не в армии ли его… Кто-то соскучился по любимой девушке, а Генка оказался на нее похожим как две капли воды, и…
Страшно чем-то довольный, он прервал мои гнусные измышления:
– Неплохо я за драчку срубил.
– Что… срубил?
– Бабло, – опешил Генка. – Друганы твои утром принесли.
– Какие друганы?
– Ну, которые в ресторане все уладили и нас развезли по домам.
– Кто «развезли»?! – Надеясь неизвестно на что, я пытался оттянуть миг разоблачения. Пусть не они, Боже, пусть кто угодно – черти, демоны, дьявол, но не они…
– Зеркалы, – растерянно хохотнул Генка. – Не помнишь?
– …и что?
– Сестра у меня умница, как завопит: «Сейчас поедем в травмпункт! Засвидетельствуем избиение! Засудим вашего Вовку!» Или, значит, платите за физический и моральный ущерб. Пораскинули мозгами, пока она мне нос правила, благо что медичка. Парни не стали долго торговаться: хорошо-хорошо, простите, до свидания. Попросили не болтать никому. А нам и самим невыгодно. Но я думал, ты-то хоть знаешь… Деньги же! Деньги! Неужто правда – тебе не сказали?
– Сколько? – еле выдавил я.
Генка назвал сумму и восхищенно покрутил забинтованной головой:
– Вот интеллигенция хренова! Надо же, не сказали… Теперь в долг у папани возьму, еще сестра займет – обещала. Куплю себе тачку. Не поленился, съездил на авторынок. Присмотрел недорогой такой «субарик», торговец даже ста тысяч кэмэ не наездил.
Он отправил смачный харчок в банку, поставленную возле мусорного бака. Попал и приятно удивился:
– Чики-брыки! Не потерял снайперский навык.
Генка был оптимист и всегда чем-нибудь доволен. Об укусе сказал, что не помнит. Предположил, что пиджак вовремя распахнулся. Мы ударили по рукам и больше не встречались.
Я сдал кое-как отмытый от красноречивых пятен костюм в химчистку, там его привели в порядок, мама и не заметила. Выпускной вечер прошел неинтересно. Учителя и родители выступали, девчонки осторожно плакали, промокая платочками накрашенные ресницы. Шампанское, торт, конфеты. Потом взрослые ретировались на три часа. Ребята приволокли заранее припрятанный ящик пива и закусь. Танцевали, играли, обжимались по углам. В общем, все как всегда.
До поступления в политех я, как примерный сын, зубрил школьную программу по нужным предметам и подрабатывал – день, ночь, где и сколько мог. И, что мог, продавал. Загнал мопед, велик, компьютер, новые джинсы, альбомы с марками, книги, дискеты, – все, все до последних мелочей.
Мама изумлялась:
– Зачем тебе столько денег?
Я не говорил – зачем.
– Это же мои вещи, мам?
– Твои… Но ты стал какой-то… жадный.
– Жадный, – согласился я. – Я, мам, всегда был такой. Ты просто не замечала.
Сумма набралась перед отъездом. Я сунул деньги в конверт.
– Что ж ты раньше-то не пришел попрощаться? – спросила Галина Дмитриевна, мать близнецов. – Мальчики два дня назад уехали.
Вряд ли сыновья посвятили ее в ресторанную историю. Я накорябал на конверте фамилию и спустил его в почтовый ящик. Не знаю, что Галина Дмитриевна подумает, когда достанет… Мне было все равно.
Я вернул долг. Вернее, денежную часть долга. Оставалось другое, а это, как я подозревал, останется не оплаченным.
…Пока я учился, отец с мамой переехали в другой город. Дед скончался, бабушка отписала дяде Пете, папиному брату, старый дом в деревне и доживала вдовий век в квартире моих родителей. Я приехал к бабушке в отпуск спустя много лет.
Давно не видел родной дом, и сердце как-то странно екнуло. Сентиментальным становлюсь, что ли? В теплом августовском дворе под окнами все так же переплетались ветвями березы. Между двух штанг раздувалось и хлопало на ветру ослепительное белье – предмет немеркнущего тщеславия соседки. Навстречу дню неслось попурри из звуков музыки, криков, хохота и птичьего щебета. На детской площадке по-прежнему возилась детвора. Взлетали к небу качели. На скамейке возле песочницы сидела женщина.
Катя? Нет, не она…
«Она», – подтвердил стук в висках. Веснушчатое лицо в солнечном ореоле, голубоватая тень в нежной впадинке ключиц, маленькая грудь с прохладной и атласной (я знал) на ощупь кожей…
– О, привет, – сказала Катя буднично, словно мы виделись вчера. – Как дела?
В безудержном порыве я без слов прижал ее к себе.
– Пусти, глупый, – вырываясь, засмеялась она.
Мы сели рядом. Я не мог отдышаться и откинулся на спинку скамьи, отдавшись на волю бешеному возврату памяти и чувств.
– Женат? – поинтересовалась она наконец.
– Нет.
Я в свою очередь вопросительно глянул на нее.
Катя отрицательно покачала головой:
– Одна. Точнее, не совсем одна… Но не замужем.
– А где близнецы?
– Юра в Москве. В ансамбле танцует. А Дима в Питере где-то.
– Мне казалось, вы трое неразлейвода.
Катя пожала плечом.
– Тебе постоянно что-то казалось. Вы, мальчики, все время играли. Они – друг в друга, ты – сам с собой.
Меня огорошила ее проницательность.
– А ты?
– Я не играла. Я просто жила.
– Даже тогда… в апреле?
– Тебе это тоже показалось.
Снова помолчали.
– Помнишь соседского пса Чародея? – улыбнулась она. – Мы с близнецами тебя так называли.
– Чародеем?
– Ну да. Ты же был фантазер. Димка уверял, будто ты наполовину существуешь в другом мире, параллельном.
– Ты не сказала, чем Дима занимается в Питере, – заторопился я.
– Чем?.. – Катя подняла прутик и нарисовала на песке сердце.
Я повторил вопрос. Она вздохнула:
– На иглу подсел.
– На иглу?! – не поверил я. – Не может быть! Нет, ерунда, не может быть…
– Правда, Володя. Галина Дмитриевна совсем поседела. Белая-белая стала, увидишь.
– Юрка что, брата кинул? С ума спятил?
– Он боролся, но поздно узнал. Они поругались. Первый раз в жизни поссорились, и сразу крупно. Разъехались. Упрямые, ты ведь их знаешь. Теперь Дима завязывает, и опять… Замучил всех. Юра танцем живет. Без танца ему плохо. Вот как все невесело кончилось, Володя.
– Не кончилось, Кать, не говори так! Ничего не кончилось.
Она махнула рукой в сторону детской площадки и неожиданно закричала с незнакомой мне хозяйской ноткой:
– Дети!
Еще до того, как до меня дошло откровение произнесенного ею слова, я спросил:
– Кто отец?
– Не знаю, – беспечно ответила Катя. – Какая разница?
Она встала и, передернувшись, характерным движением оправила собранный под коленями подол сарафана. С качелей к нам суматошливо мчались две совершенно одинаковые девчушки в белых платьицах. Катя потянулась вперед руками, словно собираясь нырнуть, подхватила дочерей и глянула на меня умопомрачительными глазами цвета кофейных сумерек:
– Как тебе модель серии «Ева»?
Девочки были рыжими. Солнце вспыхнуло пламенем на их кудряшках, перемешанных с волосами матери. Я подумал, что без изменений взял бы их в свой дворец. Нет, я бы построил им новый дворец, в миллион раз красивее прежнего!
– Класс, – сказал я.
…А я и построю. Мои предпринимательские усилия дают уже нехилые плоды. Всего за два года удалось прикупить помещение для гаража, «Шиномонтаж» работает вовсю. Вот-вот открою магазин запчастей, небольшой пока, есть на примете. Раскручусь!
Мне захотелось подставить ладони рыжему огню. Я себя пересилил.
– Ты сделала то, что мне никогда не удавалось, королева. Они совершенство, и они живые.
– Что ты хочешь этим сказать?
Ее вопрос мячиком ударился в спину, но не остановил меня. Я побежал, чтобы побыть наедине с собой. Поцелую бабушку, распакую подарки и попрошу пока меня не беспокоить. Чаек с пирожными и разговорами подождут. Полежу в своей бывшей комнате на детской кровати.
Следует хорошенько обдумать поездку в Питер. Я буду не я, если не вытащу Димку из этой бездны. Из беды. Я его вытащу, даже если он не захочет. Даже если придется уничтожить всех его дружков-наркоманов. Зря, что ли, я – Чародей?! Бизнес, магазин, дворец – потом, потом. Впереди целая жизнь. Она только начинается.
Шуба баская, с плеча барского
Бабке стукнуло девяносто лет, а зубы ее, сточенные временем, не знали кариеса и теперь больно ранили сухие белесые десны. Два года назад ей удалили аппендицит. Это была единственная операция в ее жизни, если не считать далеких, прошедших без вмешательства извне двенадцати родов и бессчетных выкидышей.
Полдня бабка проводила перед бумажной иконкой Николая Чудотворца и по причине глухоты молилась громко, во всеуслышание. Испрашивала для несметных родственников здоровья и благополучия, перебирая имена не вразброд, не по возрасту и чину, а в своем собственном порядке, установленном по степени родства. Старуха держала у себя в голове все густо разросшееся генеалогическое древо до последней его веточки, помнила всю, даже не кровную, родню, разбредшуюся на пол-России. В остальном же бабкина память страдала дальнозоркостью: минувшее виделось четко, а сегодняшнее, едва мелькнув, покрывалось беспросветным туманом.
Мыть свою комнату бабка никому не доверяла. Раз в неделю сама ползала по полу с лоскутом фланели, потихоньку двигала тазик с водой, и, когда умудрялась подняться, не чуя ни поясницы, ни ног, слышался сухой треск обветшалой коленной конструкции. Каждый раз домочадцы недоумевали по поводу старухиного упорства в стремлении добиться праздничного блеска от крашеных незатейливой охрой половиц – проявление столь героических усилий для достижения столь ничтожной цели.
По субботам правнучка с мужем и пятилетним сыном шли мыться в центр городка в баню. Бабка оставалась с младшим праправнуком и дребезжащим фальцетом пела над его кроваткой фривольные частушки своей молодости. Ребенок слушал с большим вниманием, демонстрировал няньке четыре новехоньких зубика – кость от кости ее – и пускал пузыри.
По возвращении правнучка, блестя лубочно-лаковыми, до скрипа оттертыми щеками, ставила цинковую ванну на два крепких табурета возле натопленной печи и купала маленького. Потом в той же ванне, зачерпывая кружкой и обливая себя горячей водой из ведра на плите, отмокала старуха. Согбенная спина ее белела неожиданно матово и по-молодому гладко. Живот, познавший внушительную долю женских тягот, пребывал в последней стадии дряблости. Высохшие, когда-то богатые молочным продуктом груди стлались тощими тряпицами чуть не до колен. Правнучка оттягивала эти длинные кожаные тряпицы во всю длину и прилежно скребла по очереди их внешнюю сторону. Затем закидывала для удобства на бабкины плечи и драила нижнюю.
После мытья старуха сушила у огня вспыхивающие серебром паутинные пряди, навеки забывшие свой первоначальный искрасна-каштановый цвет и объем. До того как заплести их в обнищавшую косичку, просила поискать вшей:
– У всех досельных баб воши были, а я у себя сроду не имала. У кого их в волосьях нету, у тех они внутрях вместе с гнидками в голове копошатся, а к смерти вылазиют. Ежели хоть одну сымашь – стало быть, скоро к моим отойду.
Бабка упрямо не желала менять раз и навсегда принятую душой речь. Вместо «любить» говорила «жалеть», вместо «ловить» – «имать», новорожденного ребенка считала «красным», а все красивое – «баским». «Моими» называла четверых мужей, с которыми в определенное судьбой время жила, от которых рожала и вдовела.
Мужья, по слухам, были на диво спокойные. Про бабку же болтали, что слыла в молодости бой-бабой и красавицей. Погулять любила всласть и между многочисленным бременем от законных чужому бедовому мужику могла вскружить голову до беспамятства. Рассказывали, что имелся у нее обычай на праздники посадить парней и девок в звонкую двухрессорную линейку с медными колокольцами под дугой, запряженную парой игручих мышастых третьяков. Лихо свистнув, тогда еще пышная яркоглазая молодайка, она пускала их с ходу в галоп, сама стояла с кнутом на облучке в бесстыдно развевающихся юбках. Роняя натертую шлеями пену, лошади носились из конца в конец городка, и то там, то здесь с гиканьем увязывалась за веселым экипажем вездесущая ребятня в надежде на сласти и кумачовые ленты с конских грив.
Правнучка не унаследовала бабкиного бесшабашного пыла. Ей от родоначальницы достались глаза грозового небесного колера и странная особенность сутками спать в тяжкое время неприятностей и скорбей. Иной раз правнучка, проснувшись среди ночи, ловила себя на желании спеть. Так бы и пела, пела бы до утра тревожным волнистым голосом. Тоже, верно, была наследная причуда, ведь и отец, внук бабкин, нет-нет да пугал домашних ночью душу рвущими ямщицкими песнями…
Заподозрить старуху сейчас в каких-либо неистовствах было сложно. Прежние страсти оскудели в ней до мелочной ругани с праправнуком да пакостей, из-за коих не хотели ее брать к себе ни дочери, ни внуки. Поэтому жила у правнучки, покуда могла качать маленького.
Правнучка ловила бабку на обтирании ночного горшка общим полотенцем для рук и сурово ей выговаривала. Та прикидывалась дурочкой. Инстинктивно прикрывая виновато дрожащую голову, часто моргала невинными глазками и клялась, что по слабости зрения перепутала полотенце с бросовой тряпкой. Однажды во время поста – старуха строго его соблюдала – она украдкой плюнула в кастрюлю, полную только что приготовленного жаркого. Вновь застав на вредительстве, правнучка в великой досаде легонько тукнула-таки пакостницу пальцем по лбу.
Пес Глупыш в этот день чуть не рехнулся от счастья и хозяйских щедрот. Блаженная бабка, не подозревая о том, что посвящает в свои интимные отношения с Богом весь домишко, как хорошего знакомого, уговаривала Всевышнего не наказывать правнучку за безверие, а семью – за скоромные паужины.
За столом правнучка, с больным раскаянием в сердце пытаясь загладить вину, завела разговор о былом. Старуха охотно откликнулась. Посасывая размоченные в пустом кипятке сухари, со смаком рассказала древнюю сплетню, давно обретшую гордый статус истории, и вспомнила своих ушедших.
– Сенечка с Васяткой красные преставилися, ишшо месяца не было имям, а Лешенька, почитай, сразу помер.
Из всех двенадцати рожденных детей она до сих пор выделяла пятого по счету, самого красивого ребенка – нежного, златокудрого, похожего на рисованного богомазами херувима. Но, видно, оттого и было такое сходство, что не жилец на белом свете оказался малыш. Дурковатый соседский мальчишка, обожавший прелестное двухлетнее дитя, взял его с собой погулять в весеннем дворе. Только вышли – рухнула трехрядная поленница, сложенная накануне для сушки… Мать выкопала из-под дров раздавленное тельце, комком холодеющей плоти обмякшее в руках, убежала со страшной ношей в тайгу и скрывалась там, безумная, надеясь вдохнуть жизнь в погибшее свое сокровище. Искали несколько дней. Уже думали, сгинула с горя, как вернулась, темная ликом, с начавшим разлагаться трупиком. После похорон проспала почти неделю и громко пела ночами.
– Ой, матушка (матушками бабка называла всех женщин), как поняла головой-то, што смертенький, будто и я с жизнью распростилася. Грех самой к могиле рядить, а все одно никому не дозволила, обмыла его, обкричала, сама гробик украсила…
Правнучка поторопилась отвлечь от тяжелых воспоминаний:
– Бабушка, после-то у вас еще детки были?
– Были, как не быть! Случалось, до сроку дите выпадало, ежели чего тяжелого подымешь, а так рожашь и рожашь без конца. Я сама-то из последышей, пятнадцатая. Наша семья казацкая, приежжая с Дону, фамилия тятина – Донской. Прадед его был оттедова или, могет, ишшо ранешние. Сибирь здоровущая, порастерялися все. Доведется Донских встренуть, знай: сродственница ты имям.
– Бабушка, а кого вы больше всех любили… из мужей? – пытала правнучка, невольно затаив дыхание.
– Пуще всех – Веничку жалела. Повадно мне было с им. Я-то уж шибко в летах ходила, а он младешенек, за двадцать тока. Баской, глаза поволочны, волосы кучерявы, девки иззавидовалися. Молод, да плотник, дитям моим все норовил помочь, с внуками игрался, меня спервоначалу до тяжелой работы не допускал. Опосля сам, болезнай, с чахотки сгорел. Хоть мало пожили, да славно. Спустимся, бывало, на берег, река под домом туточки, сядем в ветку, на небо обое глядим…
– На дереве, что ли, сидели? – удивилась правнучка.
– Да како тако дерево, како тако! – сердито заквохтала бабка. – Лодка махонька – «ветка» по имени. Плывем по забережью, глядим на небо-то. Звездочка упадет – человек родился. Две звездочки – враз двойнята, а мы радые! Он к сердцу меня прижмет и всяки жалостны слова говорит, говорит… Я слушаю – гармонь в душе!
– А какие слова?
– По-всякому голубил: зорюшка моя, пташечка, курочка…
Вертевшийся рядом праправнук захохотал:
– Бабка – курица, бабка – курица!
Старуха обиженно умолкла. Отрешенно вытаращилась в окно на синеющие холмы и медленно, тихо посветлела лицом, будто ее вылинявшим глазам удалось высмотреть неведомые, возвращенные сердобольной памятью дали.
Правнучка отогнала сына. Погладила, ластясь, пергаментную, усеянную ржавью бабкину руку:
– Вы у нас, бабушка, красавица. Беленькая, чистенькая, как курочка…
Вдохновленная поддержкой, бабка азартно закричала в раскрытую створку окна выбежавшему праправнуку:
– Сам петух! Голопузый, лупоглазый петух, петух!
Отомстив, откинулась в кресле, довольная, и снисходительно вздохнула:
– Малой, што с его возьмешь…
– Бабушка, а правда, что вы революционера Нестора Каландаришвили видели?
– И-и-и… Видала. Я в тую пору вдовела опосля Тимоши-то. Тимоша купец был, дом большой, богатый – шкапы резные, самовары тульские, в сундуках шубы, тулупы, шапки ни по разу не надеванные. А в ихнем ревкоме печка сломата, на стенах куржак. Не схотели туды и у меня остановилися. Ели много, вино дули. Ничего мое не трогали, врать не буду, не забижали. От тока с шубой худо вышло. Морозы выдалися, а у его, Нестора-то, суконка да кожанка. Мне грустно, шо он мерзнет. Достала с сундука шубу Тимошину, баская шуба, рысья. Нестор расписку дал, обещал опосля вернуть и сгинул. Куды – никто не ведат. Расписка евонная у меня до-олго под скатеркой лежала, а в войну запропастилася.
Свободные для рассказов часы выдавались редко, занятая детьми и хозяйством правнучка к вечеру выматывалась и падала с ног.
К осени бабка почувствовала себя плохо и все чаще просила поискать в волосах вшей. По ее словам, «до смерти боялася смерти». Кто знает, какие грехи томили изжитую, глубокой памятью источенную душу? Все чаще бессмысленным становился взгляд, бумажнее кожа на серпастой спине, все хуже помнила бабка события текущего времени…
В кинотеатре крутили фильм о Несторе Каландаришвили под названием «Сибирский дед», правнучка с мужем решили встряхнуть угасающие бабкины чувства. Сосед для такого случая подкатил «Москвича», подружка согласилась приглядеть за маленьким. Старуха заволновалась, не понимая, чего от нее хотят и куда собираются везти. Озираясь затравленно, с опаской влезла в машину. Кинотеатр, видимо, напомнил бабке церковь, нерабочую в городке по советскому времени, – истово закрестилась в фойе, поклонилась портрету Брежнева.
Взяли билеты в первый ряд. К разочарованию молодых, ленту старуха смотрела без интереса. На середине фильма вдруг оскалилась, зевнула и, казалось, собралась задремать. А действие на экране разворачивалось все увлекательнее. Сибирский дед лихо скакал на коне, хохотал хищно, зубасто, супя угольные брови. Яростно сверкали под солнцем снятые на Волге ленские снега, дымились палящие ружья, блуждающим костром возгоралась рыжая доха Нестора…
Проснувшись в какое-то мгновение, бабка ухватила из зрелища то, чего ждала, о чем вспоминала долгие годы. Резво подпрыгнула и, шишковатым пальцем грозя легендарному знакомцу, завопила тоненько и визгливо:
– Расписку писал, вахлак, шубу вертай!
Народ зашикал, кто-то потянул скандальную зрительницу за хлястик пальто, она отмахнулась, как от назойливой мухи, и снова заверещала:
– Шубу вертай, эгей! Тимошина шуба-то!
Сколько правнучка ни совестила, сама едва от стыда не плача, даже ущипнула бабку за руку, та не унималась. Пришлось срочно выйти из зала под возмущенный гомон и смех.
Старуха и дома не могла успокоиться, призывала всех в свидетели и возбужденно потрясала мосластым кулачком: