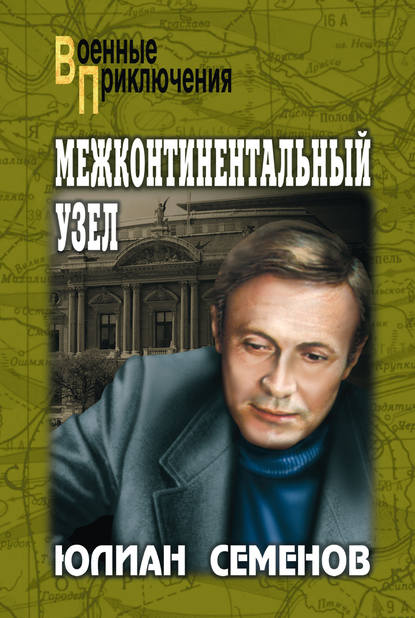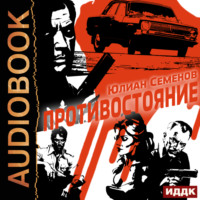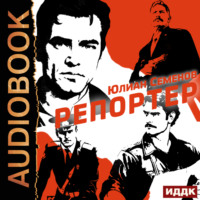Полная версия
Противостояние
Дерябин достал из кармана «Герцеговину Флор», неторопливо раскурил длинную папиросу, глубоко затянулся и ответил:
– Помнится, маленький какой-то был.
– Почему запомнили? – поинтересовался Костенко. – Из блатных? Поделец?
– И не блатной, и не поделец, но тоже свое сидел – шофер, сшиб кого-то, получил срок.
– Фамилию не помните?
– Имени даже не помню, начальник, откуда ж фамилию-то?
– Примет никаких особых не было? – спросил Жуков. – Наколки, например?
– Наколка была, – ответил Дерябин, подумав. – Только не помню какая.
– На правой руке? – спросил Костенко.
– Нет. На левой вроде бы…
– Якорь? – подстраиваясь под Костенко, спросил Жуков.
– Только не якорь, – ответил Дерябин. – Буквы скорее, а какие – не упомню я, говорю ж, бухой был до остекленения…
– А о чем говорили? – спросил Костенко. – Может, он какое имя называл? Улетал из Магарана? К кому? Куда? Или прилетел?
– Имя он называл, – сказал Дерябин, – он Дину какую-то называл, это помню. «Не женщина, – говорит, – а бульдозер. Для тела подходит, душу не трогает». Маленькие все здоровенных любят, к надежности тянутся… Это мне карлицу подавай, а как какой низкорослый – тот норовит на громадине остановиться.
«Москва. УГРО МВД СССР, майору Тадаве. Срочно установите, не обращалась ли в отделения милиции по стране женщина по имени Дина, отчество и фамилия неизвестны, однако могут начинаться с букв “С” и “К”, в связи с розыском пропавшего без вести мужчины в период с октября по апрель? Костенко».
«Магаран. УГРО ГУВД СССР. Прошу установить, не обращалась ли в отделения милиции края женщина по имени Дина в связи с розыском пропавшего без вести мужчины. Ответ радировать в Сольгинку. Жуков».
Ответы пришли к вечеру – в обоих случаях отрицательные. Дальнейший допрос Дерябина никаких результатов не дал. В три часа ночи Жукова разбудили – на связь по рации вызывал научно-технический отдел управления.
– Судя по дактилоскопии, – записывал радист, – убитым был Минчаков Михаил Иванович, 1938 года рождения, шофер, осужден за наезд.
Дерябина будили долго – храпел он богатырски, грудь вздымалась ровно, как океанский прибой. Открыв глаза, он не сразу понял, чего от него хотят Костенко и Жуков, норовил повернуться на бок, по-младенчески чмокал губами, ладошку подкладывал под щеку.
– Да не спи же! – озлился, наконец, Жуков. – Того коротышку Минчаков звали?
Сначала Дерябин нахмурился, потом широко открыл глаза, резко поднялся с кровати:
– Точно! Миня! Минчак!
– Откуда он в Магаран прилетел? – спросил Костенко.
– Ей-богу, не говорил! Погодите, он вроде б улетал. Точно, говорил, на Большую землю подается.
– Ну-ка, Спиридон, ты по порядку все теперь вспомни: тут каждая мелочь важна, – сказал Жуков. – Теперь легче тебе будет, кончик мы ухватили.
– Против меня копаете? – спросил Дерябин, одеваясь. – Или я – в чистоте для вас?
– Вроде бы вы ни при чем, – сказал Костенко.
– Он при деньгах был? – спросил Жуков. – Не помнишь, Спиридон?
– А говорите – чистый… Ясное дело, капканы ставите… Неужто думаете, на мокруху пойду? Я ж в полной завязке, зарабатываю по шестьсот в месяц.
– А после аэродрома, когда в ресторане с Минчаком кончил гулять, ни копейки в карманах не осталось, – заметил Жуков.
– Да разве я с ним одним гулял?! Сколько народу напоил?! Роту, ей-богу, роту целую сквозь свой стол пропустил! Если б я его молотнул – зачем мне сюда возвращаться? Я б к маме полетел. Да вы буфетчика в ресторане спросите, он меня вниз сволок, когда я за столом уснул… Может, он Миню помнит?
– Спросим, – пообещал Костенко. – Обязательно. Только припомни, что тебе Миня говорил? О чем? О ком?
– Говорить-то говорил, да не помню что… Истый крест, помнил бы – помог. Про Дину помню, а потом – провал…
– Давай, давай, – сказал Жуков, – напрягись, «Простата»…
– Погоди, – лязгающе застегнув офицерский ремень, сказал Дерябин, – вспомнил. Тогда ж рейс отменили, снег валил, поэтому и гудеж шел… Или перенесли на утро, или отменили… И я б улетел, и Миня… Точно, буран начался, в диспетчерской сказали, что до утра откладывается, ну и понеслось – Россия! Она – стихия, и мы стихийные.
– Сколько классов кончил? – спросил Жуков.
– Фюнф, – ответил Дерябин. – Неполно-среднее, так пишу в самодоносках.
Костенко рассмеялся:
– Это про анкету?
– А про чего ж еще? Про нее, родимую – ври, не хочу, зато подшита, и обратно в характеристике: «Выдержан, хорошие показатели, привлекался, но смыл».
– Слушайте, а Миня за столом платил? – спросил Костенко.
– Он платить хотел, что правда, то правда. Но я выступал тогда; запретил ему и копейку тратить. А пачки денег у него были здоровые, он их с трудом из кармана доставал, как винт вывинчивал. Я-то все просадил… А может, потерял…
– Почему в милицию не заявил, что деньги пропали, Спиридон? – спросил Жуков.
– Я было думал… А потом похмелился и ну, решил, всех к едрене фене – затаскаете…
– А Минчакова утром уже не было? – спросил Костенко.
– Нет. Не было, – ответил Дерябин убежденно. – Неужто погубили масенького?
– Дерябин, – еще ближе подавшись к Спиридону, тихо сказал Костенко, – а тебе Загибалов что предлагал власти сдать? Золото?
– Раскололся, – покачал головой Дерябин, – до задницы, гляжу, раскололся… Самородок я нашел, ну и думал с собой взять, а он говорил, продай власти…
– Продали?
– Мине продал, – ответил Дерябин. – Вроде бы за пять косых, пьяный дурак, отдал… Потому руки-то его и запомнил, иначе б разве осталась в памяти эта Дина?! У него «Д» на руке было наколото, про «Д» сейчас точно вспомнил…
«Магаран. Костенко. По месту нахождения. Минчаков освобожден из колонии досрочно. По наведенным справкам жил и работал – после освобождения – в поселке Знаменское. Тадава».
«Поселок Знаменское, дежурному по отделению. Срочно установите в сберкассе поселка, когда и сколько снял со своего счета Минчаков Михаил Иванович, взял ли наличными или положил на аккредитивы. Костенко, Жуков».
Дежурный в Знаменском оказался парень быстрый. Он пришел в дом заведующего сберкассой Зусмана в шесть утра, а в шесть сорок вызвал к рации Жукова – имя Костенко ему ничего не говорило.
– Минчаков снял со своего текущего счета 4592 пятнадцать тысяч рублей 12 октября прошлого года. Деньги положил на три аккредитива, номера 56124/21, 75215/44, 94228/97 в тот же день, товарищ Жуков.
– С вами говорит Костенко…
– Кто, кто?!
– Костенко.
– Откуда вы? – поинтересовался Гуськов.
– Из Москвы.
– А Жуков где?
– Рядом.
– Как в Москве дела? Тепло уж небось? – Гуськов перешел на лирику.
– Тепло! – рявкнул в рацию Жуков. – Вы начните опрашивать всех, видавших Минчакова перед отъездом, мы сейчас к вам вылетаем. Как у вас погодные условия?
– Сядете. Снег начался с дождем, но мы фарами посветим.
9
Фары были, однако, едва видны, вертолетик болтало из стороны в сторону, ветер шквальный.
– Не сядем, – прокричал пилот штурману.
Жуков услышал, крикнул:
– Надо сесть!
– Не надо, – сказал Костенко. – Что это за манера давать категорические советы? Вы пилот или он?
Жуков усмехнулся:
– Боитесь, что ль?
– Конечно. А вы – нет?
– Мы здесь привычные.
– Я, знаете, тоже привычный, только гробиться зазря не хочу.
Жуков, видимо, перед вылетом выпил, озорничал поэтому.
– Ребята, – прокричал он пилотам, – полковник боятся, велят поворачивать назад!
Пилоты назад не повернули, начали зависать.
Спускались медленно, болтало.
– Бутылка-то есть? – спросил Костенко.
Жуков достал из кармана плоскую фляжку:
– Спирт. Дышите потом глубже.
– Вы меня кончайте учить, – усмехнулся Костенко, – ишь, Монтень выискался.
– Как вас не учить, коли первый раз на Севере!
– Я, Жуков, на Севере был еще более дальнем, парнем еще, когда глухая старуха Потанова трудилась в поте лица и о пенсии не мечтала. Ясно?
…Третий – из тех двадцати, что вызвали на допрос, слесарь Лазарев, – на вопрос Костенко ответил уверенно:
– Нет, он в штатском улетал. Откуда у него форма? Я ж его до вертолета на мотоцикле довез…
– А может, у него в чемодане форма была? – спросил Жуков.
– Да нет же! Зачем она ему? На флоте он никогда не служил, пижоном не был… Да и потом поселок маленький, всё у всех на виду, мы б знали, товарищ майор. Я могу сразу сказать, что у него было: шкафом-то не обзавелся, весь гардероб на крючке за дверью висел, под марлей. Кожанка была, рубашек было несколько, ну и спецовка там… Бушлат…
Жуков поглядел на Костенко, тот отрицательно покачал головой, но все же спросил:
– Бушлат с какими пуговицами? С черными?
– Конечно, не с медными, – ответил Лазарев, – те на морозе не застегнешь, все пальцы поломаешь, кожа прилипнет, разве можно?
…Буфетчица Трифонова прибежала к Жукову вечером, уже после того, как дала показания;
– Ой, вспомнила, товарищ майор, у него первая любовь в Магаране живет.
– Ну?! А как зовут? Где работает?
– Он скрытный, этот Минчаков, никому не открывался. Как освободился, как перешел на вольную, так бобылем и остался жить: деньги заколачивал, по тысяче в месяц брал. Организованный был мужик: одну субботу выберет, придет в буфет, купит пару бутылок – значит, будет гулять. Один. Раз только, помню, автобус отходил, на магаранский вертолет, Минчак у меня в буфете стоял, вздохнул, помню, и сказал: «А у меня там первая любовь живет».
– А вторая где?
– Чего? – не поняла женщина.
– Ну, если «первая» любовь, значит, и «вторая» – по логике – должна быть.
– Да кто мужиков поймет? У вас своя логика, у нас – своя. Первая, может, и была, а потом чередою пошли, со счета сбился, помнят-то первое, потом стирается все…
Костенко осмотрел маленькую комнату Минчакова тщательно; сначала сел на койку, заправленную серым одеялом, закурил, бросил спичку в стеклянную банку, вспомнив при этом отчего-то жену Загибалова, и начал медленно по секторам исследовать минчаковское жилье.
Митя Степанов, вернувшись из очередной своей командировки, рассказывал, как работают молоденькие девушки в охране президента США. «Они, понимаешь ли, Слава, хорошенькие, что – немаловажно. И поэтому на них любопытно смотреть. Но потом делается страшновато: когда их шефы сидят в зале переговоров, девушки кокетничают с прессой, милашки, одно слово, но стоит хозяевам появиться, они меняются неузнаваемо. Все прежнее: и фигурки, и овал лица, и рот, только глаза делаются другими и скулы замирают. Понимаешь, глаза их перестают быть обычными, человеческими. Голову они не поворачивают, лишь глаза, как на шарнирах, очень медленно, контролируют свой сектор, кто бы ни попал: журналист ли, ребенок, старуха – никакого выражения, лишь напряженное ожидание опасности».
Костенко попробовал так смотреть и с удивлением обнаружил, что эдакое разглядывание действительно позволяет видеть значительно больше; сектор – он и есть сектор – изначально заданная конкретика.
Поэтому сейчас, зябко поеживаясь в комнате Минчакова, – печка не топлена, холоднее, чем на улице, – Костенко начал шарнирить глазами.
Стол, накрытый газетами. Газета районная, значит, центральные не выписывал, хотя поди их сюда выпиши. Но районные получал. Интересно: подписался ли до конца года? Если – да, следовательно, рассчитывал вернуться. На почте могут помнить, кому писал, от кого получал письма. Значит, почта. В столе один ящик, там, видно, посуда, ножи, вилки. Два табурета. Крючки, на котором висел «гардероб», о котором рассказал Лазарев. Остался старый пиджак, такие в деревнях деды носят, с мятыми, обвислыми лацканами, пуговица одна, но зато пришита накрепко…
«Наверное, Тадава не может со мной связаться, – подумал Костенко. – Видимо, все установочные данные на Минчакова он уже получил… Неужели бобыль? Молодой ведь мужик. Ни матери, ни отца? А Дина где? Интересно, Жуков запросил Магаран по поводу всех Дин, там живущих? Толковый мужик, хорошо работает».
Костенко поднялся с кровати, пружины тонко прозвенели; подняв матрац, глянул, нет ли там чего – чисто. Открыл ящик стола: две тарелки, три вилки, два ножа, большая ложка, видимо, ею же и сахар в стакане размешивал и щи хлебал.
«А вот латыш, – подумал Костенко, – комнату бы обжил. Уж про немца и говорить нечего. А наши забили деньгу – и обратно. Сами себя люди теряют; временность; невосполнимо это, пропавшие годы, надо всегда сразу же обживаться, чтоб каждый твой ночлег на земле остался в памяти радостью и красотой. Отчего это у нас так? От неуверенности, что ль? Или от мятежности духа – тянет все куда-то, тянет… Кто это сказал – стихийные мы? Дерябин? Да. Он. А что? Тоже ответ. Да только верный ли? Пространства, пространства, так их и так, хотя, с другой стороны, на них в конечном счете надежда, на пространства-то».
Костенко приподнял газету, на которой лежали ножи и вилки, увидел старый, со следами жира, конверт. Письмо Минчакову М. прислала из Магарана Д. Журавлева, Портовая, двенадцать, квартира семь.
Костенко осторожно открыл конверт: письма не было. Адрес зато есть. Тут больше делать нечего, вспомнят что люди – скажут участковому Гуськову, парень оборотистый, сообщит в момент…
10
– Журавлев Роман Кириллович, – медленно читал Жуков, – ветеринар, 1939 года рождения, образование среднеспециальное, жена Диана, 1946 года рождения, образование…
Костенко перебил его:
– Вы погодите про образование… Диана? Сокращенно – Дина. Ну?
– «Первая» любовь, что ль? – спросил Жуков. – Вы это имеете в виду?
– Это.
– Никакая она не «первая» любовь, – ответил Жуков. – Мои парни все ее документы прочесали, первый раз замужем.
– По-вашему, любовь без женитьбы невозможна?
– Какая это любовь – похабщина…
Костенко обиженно усмехнулся, спросил:
– Где женились Журавлевы?
– Здесь, где ж еще, – ответил Жуков и медленно поднял глаза на Костенко. – Что, думаете, старый паспорт потеряла, где штампик с Минчаковым стоял?
– Надо мне вас в Москву забирать, – сказал Костенко, – хорошо мысль чувствуете, толковые помощники сейчас на вес золота, воз тащат, линию держат, мне, начальнику, спокойно. Заберу, право, заберу.
– Думаете, соглашусь?
– В Москву-то?
– Ни за что не соглашусь. У вас там человек как иголка в стоге сена, а у нас, в провинции, уж коли уважают – так уважают, на виду, и почет тебе, и квартира без очереди, и кухня восемь метров. У меня вон Урузбаев работал, по распределению попал, родился в деревне, в горах, а поди ж, рвался обратно, хоть в село, только б к себе. Недавно письмо прислал, счастливый, растет, капитан уже, а я все в майорах…
– А говорите – уважают…
– Так, Владислав Николаевич, золотой человек, у него ж в республике своих поддерживать умеют; это мы собачимся: «Хочу, чтоб у соседа корова сдохла», – разве нет?
Костенко вздохнул:
– Майор, на что замахиваешься?
– На себя, – ответил Жуков, – на кого ж еще? Вернемся лучше к Диане. По образованию тоже ветеринар, кстати. Что, думаете, на пару разобрали малышку – и в мешок?
– А как он к ним попал? Почему морская форма? Откуда она вообще взялась? Поедем, что ль, беседовать?
– Рано. Наши работают по сберкассам, ищут, не было ли вкладов от Журавлевых, соседей опрашивают, на службе у них шуруют.
Они сидели в угрозыске, в маленьком кабинетике Жукова – смертельно усталые, сразу с аэродрома, не заезжая домой к майору, вернулись в управление, хотя жена его напекла пирожков, дважды звонила: «Неужели дома нельзя поговорить, двадцать минут дороги, что может случиться за то время, пока приедете?»
Ретроспектива-III [Март 1945 года. Бреслау, Витекамерштрассе, 5]
Кротов отполз от окна; большевики засели в здании напротив, притащили пулеметы, подняться с пола теперь было невозможно.
«А что, если они на крышу влезут?» – подумал Кротов и посмотрел на Уго из СС: он в Сталинграде воевал и в Варшаве, уличный бой знает.
– Э, унтершарфюрер, а если красные заберутся на крышу? Они ж нас перестреляют, как кур.
Уго покачал головой:
– Нет, им нечего делать на крыше, там нет балок, потолок обрушен, пулемет не поставишь…
– А почему наши на третьем этаже не стреляют?
– Зачем стрелять без дела? – удивился Уго. – Мы не пустили русских к вокзалу, пусть теперь очухиваются, а тем временем к нам прорвутся танки, и мы их так ударим, что они откатятся до Варшавы…
– А зачем им давать очухиваться? Надо бить, пока они устали.
Уго закурил, глубоко затянулся, спросил:
– Чем бить? Мы ударим сокрушительно, когда закончим работу по созданию «оружия возмездия». Это и решит исход битвы.
– А что такое «оружие возмездия»?
– Ракеты. Их не может достать снаряд, не может перехватить самолет. Они начинены сверхмощной взрывчаткой – одна ракета снесет половину Москвы. Разве после этого русские смогут продолжать войну? Они ведь и так на издыхании…
– Плохо вы знаете русских, унтершарфюрер…
Уго не обиделся, ответил задумчиво:
– Наверное. Но их очень хорошо знает фюрер. Нам, простым людям, нужно знать свое и честно это свое выполнять. Если каждый решит знать все – не будет порядка; много гениев – это плохо, это ведет к полнейшему бардаку. Надо, чтобы каждый знал свое место в жизни.
– Каждый хочет чтоб получше…
– Верно. И наша национал-социалистская революция сделает так, чтобы каждому на своем месте было хорошо. Человек должен верить, что лучше не может быть. Я после ранения месяц отдыхал в охране Дахау. Там было очень интересно. Я помню, как одного заключенного назначили писарем, у него был хороший почерк, он не был ни комиссаром, ни евреем, ни цыганом… Какой-то румын, мне кажется… Не русский, конечно, тех не пускали в писари… Так вот, этот румын стал таким счастливым, что шапку драл с головы за сто метров, едва только нас замечал… Каждому свое… Он был счастлив, что не нужно копать ямы и таскать камни, а хлеба получал столько же, сколько и раньше, и такую же миску супа. И он верил, что лучше быть не может. Не надо ему лучше, только б сохранить то, что он получил…
Прогрохотала очередь, зазвенело разбитое зеркало; пулеметчики угодили в косяк платяного шкафа. Дверца скрипуче и медленно открылась, Уго усмехнулся:
– Посмотри-ка, сколько костюмов, а? Какой-нибудь торговец жил, плутократ. Мы, истинные национал-социалисты, довольствовались формой и одним пиджаком…
– Скорее бы стемнело, надо пролезть к нашим на последний этаж… Я боюсь, большевики все же залезут на крышу, тогда – конец.
Уго посмотрел на часы:
– Через полчаса будет темно, поднимешься, посмотришь…
– А Бреслау окружен, или выход есть?
– Окружен.
– Так, может, попробовать пробиться на запад, унтершарфюрер?
– За такие разговоры будем расстреливать. Это пораженчество. Фюрер приказал превратить в неприступную крепость каждый немецкий дом, не то что такой город, как Бреслау. Я видел тебя в деле, поэтому верю тебе, но не вздумай так сказать при других – сразу донесут, и я же первый буду вынужден тебя казнить.
– Унтершарфюрер, я так сказал потому, что вас возьмут в плен, отправят в лагерь и будут кашей кормить, а нас всех к стенке, вот в чем дело-то…
– Ты думаешь о плене?! Как тебе не стыдно! Пойми, сейчас рейх силен, как никогда! Мы пружина, понимаешь ты это? Речь идет о жизни и смерти нации! Мы сейчас сражаемся не за французов или румын, неблагодарных свиней, а за немцев! Разве нацию можно победить? Что может быть на свете сильнее национального духа?! Да ничего! Когда мы победим, я женюсь и нарожаю множество детишек – чтоб в прихожей стояли ботиночки моих девчушек и сыновей. Знаешь, какое это счастье?! Нация должна быть большой, иначе ее сомнут и разжижат чужой кровью.
– А нам как же?
– Кому это?
– Кто с Власовым.
– У вас тоже будет своя нация… Не такая большая, как у нас, но своя… Мы поможем вашим женщинам, – вдруг рассмеялся Уго, – иначе нельзя, мы обязаны отдать вам часть своей крови, чтобы как-то организовать вас, приблизить к нам…
– Эх, отчего ж вы нам оружия не дали в сорок втором, унтершарфюрер?!
– Гитлера обманывали генералы. Фюреров всегда обманывают самые близкие люди. Мы их уничтожили, и теперь вы получили оружие. Теперь вам только и воевать за освобождение России от большевиков, а ты говоришь про плен – разве можно?
Вдруг загрохотало, полетели остатки стекол из окон, два снаряда угодили в верхний этаж, там кто-то тонко закричал: «Ой-ой, черт, сука!»
– Вот они и очухались, унтершарфюрер!
Уго подобрал колени под живот, придвинулся еще ближе к батарее:
– Это наши танки. Русские так не могут…
– Какие «наши»?! Что ж тогда они по своим лупят?!
– Это наши танки, – повторил Уго и достал из мешка гранаты. – Ясно? Они хотели выкурить русских мерзавцев, а ненароком попали в нас…
– Я тоже русский, унтершарфюрер!
Тот вдруг рассмеялся:
– Ты наш русский, немецкий русский, мы хорошо относимся к таким русским…
Потом громыхнуло три раза подряд, в комнате обрушилась часть стены, запахло штукатуркой, нос заложило; унтершарфюрера отбросило в сторону, он широко открыл рот, видимо, оглушило. Потом, словно ящерица, снова подполз к батарее, так, чтоб не было видно из окон дома, где засели красные.
А Кротова волной задело самую малость, только развернуло на полу, и он теперь уперся взглядом в открытый шкаф, где висели костюмы и пальто, а на верхней полке – аккуратно сложенные простыни и полотенца.
– Это наши, – повторил Уго. – Пристреливаются. Наверное, молодые ребята, опыта еще нет. Если б русские – «ура» стали кричать, и танки б пошли… Мы их не пустим сюда, они сюда придут, только перешагнув через наши трупы…
– Зачем гранаты достали, унтершарфюрер?
– На всякий случай. И ты достань.
Кротов подвинул ногою свой мешок – ранец в каптерке брать не стал; туда, он считал, не уместится столько, сколько в мешок; легко развязал толстую веревку, завязанную парашютным узлом, положил рядом с собою две гранаты и вытащил из-за голенища нож.
– Как же ты ловко узел развязал! – одобрительно сказал Уго. – Будто фокусник в цирке.
– Ваши научили, – ответил Кротов, – они меня еще и не тому научили. Вот, берешь нож, – он достал из ножен остро отточенный тесак, – пробуешь сталь о ноготь, видишь?
– Вижу, – ответил Уго, придвинувшись еще ближе. – А зачем?
– Ближе смотрите, унтершарфюрер, темно, вы ж след на ногте не видите…
Уго придвинулся вплотную к Кротову, силясь рассмотреть во внезапно наступившей темноте следы от тесака на плоском ногте власовца.
– Вижу. Как зарубка в лесу.
– Точно. Зарубка – счет, – ответил Кротов и с маху воткнул нож в горло унтершарфюрера; кровь брызнула, словно кабана бил – не человека…
…Раздевался Кротов лежа; стащил с себя форму, сапоги, потом подполз к шкафу, сорвал пальто и костюм, они обрушились на него; он замер, испугавшись шума, хотя по-прежнему в городе шла стрельба, но он сейчас ничего вокруг не слышал, он только себя слышал, свое сердце, которое клокотало во рту. Ухватив все, он вновь отполз к окну, там, где не простреливалось, и начал лихорадочно быстро натягивать на себя штатский костюм. Был он ему велик, но не очень, не сразу определишь, что с чужого плеча, можно даже сказать, вон, мол, как оголодал у немца на каторжных работах. Влез кое-как в пальто. Надел шляпу – на уши надвинул, взял наволочку, сунул в карман, сойдет за белый флаг, и медленно пополз к двери, волоча за собою вещмешок. Потом снова отполз к окну, вещмешок раскрыл, достал документы, порвал их, спичку побоялся зажигать, фотографию свою – во власовской форме – сжевал и проглотил, снова пополз к выходу; оказавшись в коридоре, поднялся, тут не простреливалось, пошел в туалет: несмотря на уличные бои, канализация работала; спустив все бумажки, он взбросил вещмешок на плечо и только тут подумал: «Переодеваться можно было здесь, вот что страх с человеком делает…»
Вышел он из квартиры по черному ходу, оказался во дворе, дверь бомбоубежища была раскрыта, прислушался – голосов нет, пусто; поднял голову, долго смотрел на небо, затянутое горклым дымом пожарищ, стараясь определить, где запад, где восток; перестрелка кончилась; с реки дул студеный, чистый ветер; он, наконец, определился и, крадучись, зажав в руке белую наволочку, пошел дворами туда, где было тихо, подальше от вокзала и центра…
Работа-III [Москва]
1
…Тадава относился к числу людей, которые работали, не думая о выходных днях. Иные ведь уже в понедельник начинают планировать вечер пятницы, самый сладкий вечер, когда можно выпить, не думая о том, какой будет голова наутро; впереди еще два дня – гуляй, не хочу.