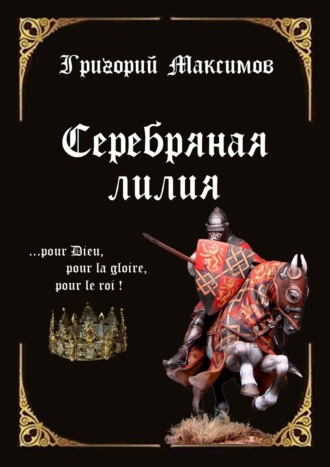
Полная версия
Серебряная лилия

Серебряная лилия
Григорий Максимов
© Григорий Максимов, 2024
ISBN 978-5-0050-0407-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От автора
Настоящий роман не является документальным; прежде всего это художественное произведение, в котором, однако, упомянуты подлинные исторические факты. Автор признаёт, что при реставрации некоторых исторических событий могут быть допущены определённые неточности. Также имена и характеры персонажей могут не соответствовать прототипам существовавшим в действительности. В качестве основного исторического источника автором использована «Хроники» Жана Фруассара.
А сколько полегло французов?
Десять тысяч!
А англичан?
Из знатных только двое…
Глава 1
Солнце уже скрылось за горизонтом, и на прекрасную, увитую виноградными лозами долину Марны стала опускаться ночь. Одна за другой загорались звёзды, а на востоке, поднявшись над лесными чащами, показался месяц. В густеющих сумерках, над строгими рядами виноградных кольев, придя на смену зябликам и лесным жаворонкам, уже вовсю порхали летучие мыши, а из глубины леса начинал доноситься волчий вой и уханье сов.
По проложенной через виноградники узкой тропе один за другим ехали семеро всадников. С наступлением темноты, опасаясь неровностей сельской дороги, они всё чаще придерживали коней, переводя их с галопа на рысь, а с рыси порой и на размеренный шаг. Какова бы ни была поспешность, но каждый, дорожащий своей лошадью, вынужден был удерживать за уздцы своего четвероногого любимца.
Первым в этой конной семёрке, верхом на чистокровном камаргском рысаке, ехал барон Клод де Жаврон – единственный и полновластный владетель раскинувшихся на многие мили вокруг виноградников, лугов, полей и лесов, полновластный владыка всех открывающихся взору просторов. Это был здоровенный муж высоченного для своего времени роста, косой сажени в плечах и огромными, способными объять даже ствол дуба, ручищами. Его длинные ниспадающие до плеч волосы, призванные, прежде всего, отображать дворянское достоинство своего владельца, были расчёсаны и аккуратно уложены в соответствии с рыцарской модой. Короткая борода, кою, по обычаям франков, было принято брить, говорила о том, что в последние дни её владелец был слишком занят, чтобы уделить хоть сколько-нибудь времени своему внешнему виду. Лицо же его, всегда спокойное и бесстрастное, словно высеченное из гранита, говорило о невероятной выдержке и самообладании. Одет он был просто, дабы в настоящий момент не привлекать к себе излишнего внимания – в длинный хвостатый капюшон, грубую шерстяную робу, брюки из воловьей кожи и простые охотничьи сапоги.
Следом верхом на прекрасном андалузском скакуне, словно тень, за своим господином двигался первый оруженосец и правая рука барона, всегда и неотступно сопровождающий своего патрона везде, куда бы тот ни направлялся. Это был красивый молодой человек с юным лицом, крепкого, но более стройного, нежели у его сеньора, телосложения. Одеты они были вполне одинаково, и единственным их различием в сию минуту были волосы, кои у оруженосца, как и велел обычай, были на порядок короче.
Остальные же пятеро были конными сержантами, в данный момент отбывающими воинскую повинность при дворе барона. Ехали они на простых беспородистых лошадках, но, в отличие от господина и его оруженосца, были вооружены до зубов. На головах у них были лёгкие широкополые каски, принятые обычно у пехотинцев, а руки и тела укрывали добротные стальные кольчуги, доходящие почти до колен, надетые поверх плотных стёганых гамбезонов. Из оружия у каждого был большой длинный нож, кинжал и добрая увесистая булава. К седлу был приторочен хороший боевой арбалет, для которого имелся прицепленный к ремню взводный крюк и плотно набитый арбалетными болтами футляр. В дополнение ко всему трое их них несли с собой устрашающего вида двухметровые алебарды.
Уже стемнело, когда этот небольшой отряд, минув виноградники, выехал на просторный, покрытый сухой травой луг. Вероятно, здешние крестьяне использовали это место под выгон, так как лошади то и дело наступали копытами в коровьи лепёшки.
На другом краю поля, шумя дубовыми кронами, темнел лес. Словно светлячки в безбрежном океане мрака, робко мерцали огоньки крестьянской деревни, уместившейся на невысоком холмике неподалёку от леса.
Выехав на открытое пространство и слегка пришпорив лошадей, отряд поспешил к угрюмой стене вековой дубравы. На той части луга, что подходила к самому лесу, трава была выкошена и аккуратно чьими-то заботливыми руками уложена в стога.
Остановив коня в нескольких шагах от выходящего из леса ракитового куста, барон спешился. То же самое за ним сделали и остальные. Утомлённые после четырёх часов непрерывной скачки лошади, едва почуяв свободу, сразу же прильнули мордами к свежему сену.
С минуту все семеро стояли молча, то прислушиваясь, то тщетно вглядываясь в окружающую их темноту. Но единственным, что им доводилось слышать, было лишь уханье сов да волчий вой, доносящийся будто из самой преисподней. Даже закалённых в боях воинов при виде ночного леса невольно брала оторопь, откуда, как им казалось, в любой миг могли выбраться ужасные и свирепые чудовища. А от звуков, доносившихся из лесу, их и вовсе пробирал холод.
Поднялся ветер, и верхушки деревьев угрюмо зашелестели, будто выказывая своё недовольство этим непрошеным гостям. Где-то совсем рядом, словно грудной младенец, зарыдал сыч, и даже сердце барона едва не ушло в пятки.
Наконец, решив, что ожидаемый час наступил, барон подозвал к себе одного из сержантов и велел тому подать условный сигнал. Передав свою алебарду товарищу, сержант вытянулся, приложил руки к лицу, и из его уст понеслось мелодичное пение соловья.
Прощебетав несколько мелодий, сержант умолк, и снова все семеро принялись ждать.
Через минуту он опять повторил то же самое. Но вокруг было тихо, только уханье сов, перемежающееся с жутким рыданием сыча да волчий вой нарушали мёртвую тишину.
Лишь на третий раз, когда барон и его люди было уже решили, что ожидаемая встреча не состоится, из лесной чащи послышался ответный сигнал. На переливающиеся трели соловья ответили робким, едва слышным овечьим блеянием.
Услышав ответ, барон злобно выругался и, стараясь соблюдать своё обычное, свойственное лишь ему, спокойствие, принялся ждать.
Не прошло и минуты, как отовсюду послышался шелест раздвигаемых кустов ракитника, и один за другим из лесной тьмы стали выходить люди. Их было пятнадцать. Все из окрестных селян, что было видно по коротким широким штанам, зашнурованным под коленями, широким рубахам, заткнутым в эти штаны, надетым поверх них кафтанам, подпоясанным в талии, и завязанным под подбородком белым чепцам. Из них выделялся один, у которого поверх рубахи была надета господская ливрея с фамильным гербом сеньора.
Месье Клод сразу же узнал своего лесничего, полностью отвечавшего не только за лес, у которого они сейчас стояли, но и за многие земли, раскинувшиеся на мили вокруг.
Представ перед своим сеньором, егерь положил правую руку на грудь и от всей души поклонился. То же самое вслед за ним проделали и крестьяне.
– Что случилось, Ги? Неужели бывалый егерь не смог справиться своими силами? – слегка улыбнувшись, спросил барон и протянул руку лесничему.
С учтивым поклоном тот протянул руку в ответ. Лесничий был единственным из присутствовавших, кто удостаивался чести здороваться за руку с самим господином.
– Покорнейше прошу вашего извинения, но похоже, на этот раз, своими силами нам не управиться, – сохраняя раболепную позу, ответил лесничий.
На некоторое время вновь воцарилось молчание.
– Сколько их? – снова обретя свой суровый вид, спросил барон.
– Точно не могу сказать, но уж верно не менее сорока, – ответил Ги.
– Отлично! Как раз справимся, – после секундной паузы сказал барон и похлопал лесничего по плечу.
Тот лишь грустно кивнул головой.
– Как называется эта деревня? Лаб… Лаб… Лабри… Лабри, если я не ошибаюсь, верно? – спросил барон, с прищуром глядя на мерцающие огоньки деревушки.
– Да, монсеньор, вы правы. Именно Лабри, – едва выпрямившись, ответил лесничий.
– С тобой есть кто-нибудь отсюда? – спросил барон, глядя на стоящих позади крестьян.
– Конечно, монсеньор, – ответил Ги и сделал знак стоящему за его спиной мужику.
Из темноты вышел дородный, упитанного вида детина, с полным сальным лицом и здоровенными, как кузнечные молоты, ручищами. Одет он был как и другие крестьяне – в широкие, подвязанные под коленями штаны, широкую рубаху и просторный подпоясанный кафтан. Вместо чепца на голове у него был покрывающий плечи длиннохвостый капюшон с зубчатой пелериной, принятый у мужчин всех сословий, а ноги обуты в простые, но добротные сапоги. В руках он держал длинную, остро отточенную рогатину, и то и дело брался за рукоять висящего на поясе огромного разделочного ножа.
– Приветствую вас, монсеньор, – грубым голосом проговорил здоровяк и, как положено, поклонился.
– Ладно, не время для церемоний, – резко ответил барон и сразу же перешёл к делу. – Как они вооружены?
– Как обычно, монсеньор, своими длинными луками. Дьявол бы их забрал!
– М-м-м… Я слышал, они продают свои души дьяволу, чтобы тот всегда посылал их стрелы прямиком в цель.
– Вы правы монсеньор, так оно и есть, – подтвердил крестьянин и покрепче сжал свою рогатину.
– А что у них есть ещё, кроме луков?
– У каждого есть большой нож. Он им необходим для ухода за луком и стрелами. У некоторых есть кинжалы. У одного, кажется, даже видели меч.
– Отлично! Значит, перед нами эти английские псы почти безоружны.
– Верно, монсеньор. К тому же каждый вечер эти белобрысые собаки напиваются, как свиньи. Пережрали всё пиво, что было у нас в погребах. И ещё недовольны! Вино им, видите ли, подавай! А мы люди бедные. Вино у нас редко водится.
– Тем лучше. Значит, дело стоит за малым.
– Да, ваша светлость. Мы уже третий день мучаемся от этих собак, и только и ждём, чтобы от них избавиться. Чудится мне, что этой ночью они нам за всё заплатят!
– Мне тоже так кажется.– с лёгкой ухмылкой сказал барон.– А кто у них главный?
– А шут их разберёт. По мне, так все эти белобрысые собаки одинаковые.
– Но среди них должен быть капитан или хотя бы какой-нибудь заводила.
– Должен быть. Но я не знаю.
Тут к ним подошёл ещё один крестьянин и попросил, чтобы ему дали слово.
– Позвольте, монсеньор. Их вожаки разместились у меня дома. Их трое, и главного из них зовут Джон Смит, – начал говорить пожилой и едва сдерживающий слёзы мужик.
– Типичное английское имя, – покачал головой барон.
– Да, монсеньор, и хуже этой породы я ещё не встречал. Даже бургундцы и швабы и то ведут себя поприличнее. А эти – сущие дикари, подонки, по-другому их нельзя назвать. Умоляю, монсеньор, помогите нам. Эти нелюди должны сполна заплатить за всё то зло, что нам причинили.
– Ничего. Жить им осталось недолго, – сам чувствуя раздражение, ответил барон.
– Бывало, они и раньше к нам заходили. Но те шли маршем, и надолго не задерживались. Бывало, отстанут от строя, заскачут в деревню втроём или вчетвером, попросят хлеба, молока, да ухватят с собой курицу или козлёнка, и всё на этом. Мы даже жаловаться не считали нужным. А эти поселились у нас в домах, творят что хотят, жрут нашу еду, спят с нашими женщинами, а нас самих вообще за людей не держат.
– Должно быть это наёмники, вольные стрелки, и не подчиняются они никому, кроме чёрта рогатого, – вмешался лесничий, доселе стоявший в стороне.
– Да пусть они подчиняются хоть самому Эдварду Третьему*– один дьявол, дни их уже сочтены, – сплёвывая себе под ноги, ответил барон.
– А вчера… вчера вечером… и вовсе… – продолжал причитать мужик.– Как обычно нажрались, напились, а потом… потом начали к моей жене приставать, к моей Жанне. Несчастная! Она сначала упиралась, и я как мог вставал на её защиту, но потом… Потом этот самый Смит достал свой огромный нож, каким он чинит свой лук, и приставил его к горлышку нашего пятилетнего сына, нашего малютки Рено. И ей пришлось быть с ними… со всеми. Хорошо хоть наших старших дочерей не было. Я успел их спрятать в монастыре.
Договорив о своём несчастье, он, наконец, не выдержал и залился слезами.
– Ничего, не пройдёт и часа как эти собаки за всё заплатят, – сквозь зубы процедил барон.
– Да, уж мы-то постараемся взять с них сполна, – подтвердил здоровяк с рогатиной.
На секунду вновь воцарилось молчание.
– Кстати, Ги, – нарушив тишину, обратился барон к своему лесничему.
– Да, монсеньор.
– К какому числу эта деревня обязана сдать оброк?
– Лабри?
– Да.
– К десятому. К десятому сентября, если я не ошибаюсь. Ко дню Воздвижения Креста Господня.
– Да, да, ко дню Воздвижения, верно, – в один голос завторили мужики.
– Значит так, Ги. Передай старосте и приказчику, что на этот раз мы возьмём лишь половину от положенного. Это приказ, понял?
– Как вам будет угодно, ваша светлость, – покорно ответил лесничий.
Услышав такое, несчастные крестьяне готовы были упасть наземь и расцеловать ноги своего господина.
– Храни вас Господь! Да поможет вам пречистая Дева! – снова в один голос завторили бедолаги.
– Ладно, хватит болтать, – оборвал их барон. – Скоро полночь, пора приниматься за дело. Ги, на твой взгляд, как нам лучше действовать?
– Конечно, вам виднее, монсеньор. Но думаю, в таком деле самое главное – внезапность.
– Да они там все пьяны, как свиньи, – снова вмешался здоровяк с рогатиной. – Перерезать их как скотов, и дело с концом! Проблема, разве что, только в часовых.
– Сколько их?
– Шестеро. Двое у въезда в деревню и ещё четверо в центре.
– Отлично! Можно считать, что мы имеем дело со слепыми котятами, – злобно усмехнулся барон.
– Да, но слепые котята, обычно, не делают того, что творят эти, – с горькой ухмылкой прошептал пожилой крестьянин.
Снова на минуту воцарилась полная тишина, нарушаемая лишь шумом ветра в кронах деревьев, да детским рыданием сыча. Луна поднялась выше, и вся долина залилась её призрачным серебристым сиянием.
– Скоро забеснуется нечистая сила, – проговорил егерь. – С полуночи и до рассвета её время.
– Ты прав, Ги. Пора убираться отсюда, – ответил барон и подозвал к себе своего первого оруженосца.
– Альбер!
– Да, монсеньор, – отозвался девятнадцатилетний юноша, доселе остававшийся в стороне.
– Возьми этих пятерых и первым войди в деревню. На твоей совести будет убрать караульных, – повелел барон, указывая на вооруженных сержантов.
– Слушаюсь, монсеньор, – ответил оруженосец.
Боясь привлечь внимание лишним шумом, лошадей решили оставить здесь, а к деревне продвигаться либо ползком, либо короткими перебежками.
Почти все дома в деревне в это время уже давно спали. Лишь из нескольких окон всё ещё лил свет и слышался шум. Ясно было, что именно там бравые английские стрелки и продолжают своё веселье. Особое внимание привлекал дом старосты, стоящий в самом центре посёлка, рядом с деревенской церквушкой. Теперь он походил на дешёвый придорожный кабак, с воплями, руганью, застольным пением и грубым идиотским смехом. Складывалось впечатление, что эти наёмники-мародёры пьют и гуляют, будучи абсолютно уверенными в своей безнаказанности. Единственной мерой предосторожности, какую они всё-таки не забыли предпринять, были выставленные на улицу шестеро часовых. Впрочем, основной задачей этих часовых было удерживать в повиновении самих же крестьян, нежели предупредить какую-либо угрозу извне.
Некоторое время Альбер, стоя на небольшой горке, советовался с сержантами как им лучше поступить. Ясно было, что прежде всего следует убрать часовых, но, как именно это сделать, он никак не мог решить.
После нескольких минут растерянности верное решение таки было найдено. Один из сержантов должен был просто подойти к англичанам и привлечь их внимание на себя. Причём неважно, как они среагируют, главным было то, что за те пару минут, на которые удастся их отвлечь, другие подберутся сзади и набросят им на головы мешки. С остальными же четверыми, что стояли в центре самой деревни, решено было расправиться точно также.
Ночь выдалась лунной и светлой, и действовать, поэтому приходилось особенно осторожно, передвигаясь чуть ли не ползком.
В то время как сержанты были заняты нейтрализацией противника, Альбер решил затаиться под раскидистой вишней, увешанной созревшими и налившимися плодами. Из-под её крон открывался прекрасный вид на деревню, на дорогу, ведущую к ней, и раскинувшиеся вокруг поля, засеянные овсом и пшеницей.
Но, когда посланные сержанты собственными глазами увидели тех, против кого устраивали столь тщательные приготовления, то едва со смеху не покатились. Английские часовые оказались столь беспечны, что просто-напросто повалились спать, вырыв себе норы в огромной соломенной скирде, стоящей на деревенской околице. Когда сержанты подошли к деревенским воротам, то диву дались: куда могли подеваться английские часовые? И только по утробному храпу, доносившемуся из-под охапок соломы, они догадались, чем заняты эти горе-охранники.
Когда же сержанты попытались с ними заговорить, делая это скорее лишь ради забавы, то те даже и глазом не повели. Заслышав рядом с собой разговор, один горе-часовой продрал свой единственный глаз и даже не удосужившись понять, в чём дело, лишь грязно выругался и поспешил скорее перевернуться на другой бок. Его же напарник и вовсе не посчитал нужным даже глаза открыть. Сытые и хмельные, они и подумать не могли, что по их душам уже вовсю звонит колокол.
Первым к праотцам отправился одноглазый. Ему просто вспороли брюхо крюком алебарды, после чего добили её же остриём. Заслышав хрипы своего умирающего приятеля, другой моментально вскочил и даже успел схватиться за нож. Но в тот же миг оказался в объятиях подкравшегося сзади сержанта и едва успев опомниться, рухнул с перерезанным горлом.
Подошёл Альбер, уплетая горсть сорванных вишен, и, удостоверившись в благополучном исходе задуманного ими плана, приказал действовать дальше.
Другие четверо оказались куда осторожнее, нежели их двое уже покойных товарищей. Один из них спал, положив голову на мешок с награбленным добром, остальные трое с азартным запалом резались в кости. Решив, что и с этими молодцами им удастся так же легко справиться, как и с первыми двумя, Альбер и его люди сильно ошиблись.
Как и было задумано ранее, четверо сержантов, воспользовавшись узкими деревенскими улочками, подкрались к ним сзади, а пятый, дабы отвлечь их внимание, подошёл к ним в открытую. Казалось, и в этот раз всё должно было пройти как по маслу. Но один из любителей сыграть в кости, едва завидев приближающегося сержанта, сразу же заподозрил неладное. Он первым схватился за свой шестопер, который всегда держал при себе, и ещё до того как на них успели наброситься сзади, успел пустить своё оружие в ход.
Подошедший сержант едва не рухнул замертво с расколотой, словно орех, головой. Благо, его спасла каска. Получив дюжую затрещину, он распластался на земле, не успев даже выхватить кинжал или нож. Увидев это, другой англичанин схватил лежащий на земле вулж и, возможно, тут же добил бы им упавшего, но сделать это ему уже не позволили наброшенный сзади мешок и верёвка.
Но, как ни странно, труднее всего оказалось справиться с тем, что спал в стороне, поскольку вначале на него даже внимания не обратили. Этот-то удалец и оказался самым крепким орешком, с каким им пришлось-таки столкнуться в эту ночь. С собой у него оказался рыцарский длинный меч, скорее всего снятый с тела убитого им дворянина, и обращался он с ним не хуже, чем с родным длинным луком. Сразу же убив сержанта, набросившегося на него с мешком и верёвкой, он ловко противостоял двум другим, вооружённым алебардами, отбивая их удары маленьким щитом-баклером и в ответ разя своим трофейным длинным мечом. Один сержант рухнул тяжело раненным, спасённым от смерти разве что добротной кольчугой, другой же что есть сил пытался справиться со своим ловким соперником. Хотя после славной победы при Крэси у англичан и вошло в моду говорить, что один англичанин может не глядя уложить семерых французов, справиться с тремя остальными сержантами этот ловкач уже не смог.
Всё это действие развернулось на небольшой площади, в самом центре деревни, как раз перед домом старосты. Крики, ругань и звон оружия, доносившиеся оттуда, были слышны всем, кто не спал, и даже те, кто спал крепче других, с лёгкостью могли бы проснуться.
Заслышав шум потасовки, пирующие в доме старосты, разморенные винным хмелем, решили высунуться наружу.
Первым на порог вывалил здоровенный детина с красным, распухшим от чрезмерных возлияний лицом.
Одет он был типично для английского йомена, из числа которых, собственно, и набиралось большинство английских стрелков. На голове у него был длинный хвостатый капюшон, из-под которого выбивались грязные светло-рыжие волосы. Поверх простой широкой рубахи – короткий подпоясанный кафтан, а на нём – неизменная, ниспадающая почти до колен красно-бурая туника с золотым английским львом на груди. На ногах были отдельные друг от друга штаны-чулки, называемые в Англии- «beinlinge», между которыми виднелись буфы из заткнутой в них рубахи. Обувью служили стоптанные, едва уже держащиеся, башмаки с заострённым носком. Грубый солдатский ремень с большим плотницким ножом и кинжалом-ронделем довершал этот внушительный «колоритный» портрет.
Едва находясь в добром здравии, он схватил стоявшую у порога метлу, и с грязной английской руганью стал ею размахивать, вероятно, приняв всех собравшихся перед ним за толпу возмущённых крестьян. Но едва он сошёл с крыльца, как в тоже мгновение получил убийственный удар алебардой.
Переступив через тело здоровяка, двое сержантов во главе с Альбером ворвались в дом. Перед их взором предстала жуткая картина.
Часть дома, отведённая под кухню и прихожую, едва освещалась мерцающим светом догорающего факела. Посреди кухни стоял массивный дощатый стол, уставленный пустыми винными бутылками и глиняными тарелками с остатками былой трапезы. За столом были четверо. Один уже давно спал, упав харей на залитую пивом столешницу. Другой, сидя напротив, с аппетитом обсасывал копчёное свиное рёбрышко. Двое других устало и без особого интереса играли в кости. Рядом с ними с видом испуганного котёнка стоял пятилетний мальчуган и молча, умоляющим взглядом просил дать ему поесть. При этом ребёнок был полностью раздет и весь, с ног до головы, покрыт ссадинами от побоев. Рядом с печью, словно прибитое животное, лежала его мать. Тело женщины было обнажено и полностью покрыто следами от увечий. Пол под ней был залит бурой, успевшей уже высохнуть, кровью. В углу, за отгороженной ширмой, жалобно стонала её старшая дочь, доставляя плотское удовольствие одному из «гостей». Самого же старосту, вместе с его старшим сыном, уже второй день как повесили.
В момент, когда в дом входил Альбер, занятый едой англичанин уже закончил обсасывать свою кость и с «отцовской» улыбкой протянул её голодному малышу. Те же, кто играл в кости, даже головы не повернули. Держа алебарду наизготовку, он застыл на секунду, созерцая весь творившийся здесь ужас. Но в следующий же миг, очнувшись от оцепенения, с яростью набросился на сидевшего за столом. До последнего момента изрядно захмелевшие от крепкого пива англичане и в толк не могли взять, что происходит. Они лишь молча смотрели, вытаращив раскрасневшиеся глаза и не в силах промолвить и слова.
Первый карающий удар обрушился на страстного любителя копчёных свиных рёбрышек. Топорище алебарды вошло аккурат ему в темя, надвое раскроив голову. Фонтан хлынувшей крови был таков, что все, кто был рядом, оказались полностью заляпаны густой кровяной массой. Что же до любителей игры в кости, то лишь когда их приятель остался без головы, они, наконец-то, опомнились. Мигом вскочив из-за стола, они выхватили свои кинжалы и приготовились защищаться. Но их рондели мало что могли сделать против двухметровых алебард. Не в силах оказать должного сопротивления, они были просто-напросто заколоты как полугодовалые поросята. Единственному из них, кто в столь поздний час уже спал, размозжили голову булавой, перед этим даже не разбудив. Последним же наступил черёд того, кто в сей момент был занят, пожалуй, самым приятным и интересным занятием. Он как раз уже успел получить от дочери, повешенного им же старосты то, что хотел, и начал было уже одеваться. Но, едва он успел отодвинуть ширму, за которой скрывался, как тут же получил остриём алебарды под дых.



