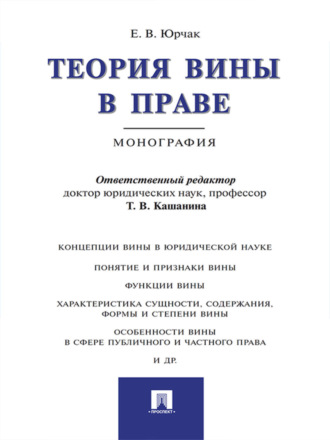
Полная версия
Теория вины в праве. Монография
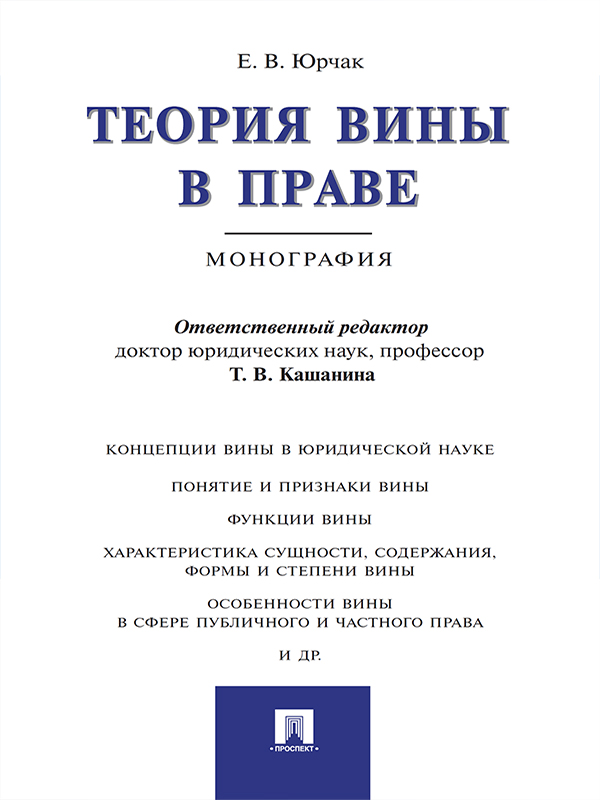
Е. В. Юрчак
ТЕОРИЯ ВИНЫ В ПРАВЕ
Монография
Ответственный редактор доктор юридических наук, профессор Т. В. Кашанина

ВВЕДЕНИЕ
С развитием цивилизации, когда человеческая жизнь и свободы личности приобрели наивысшую ценность, принцип ответственности за вину становится одним из центральных принципов правовой действительности, именно поэтому определение понятия вины приобретает такую значимость.
Социально-правовая сущность вины может быть раскрыта лишь с учетом всей совокупности философских, психологических и правовых ее характеристик. Поэтому институт вины рассматривается в данном исследовании в широком смысле слова, как многоаспектное правовое и социальное явление. С одной стороны, вина – это элемент социальной реальности, с другой – это правовое явление, содержание которого предусмотрено правовыми нормами.
Юридическая ответственность в различных сферах правового регулирования (публичном и частном праве) имеет свои особенности, обусловленные целями правового регулирования, поэтому принцип вины в публичном и частном праве проявляется по-разному, в связи с этим необходимо произвести анализ категории вины с позиций публично-правовой и частноправовой доктрины.
В уголовном праве, как и в других отраслях права, нет законодательного определения вины. Определение вины как психического отношения лица к совершенному деянию не отвечает современному развитию юридической науки, необходимо выработать иной, общетеоретический подход к определению данного понятия.
Проблема генезиса вины, ее содержание в теории права исследованы недостаточно глубоко. Традиционно исследуются лишь интеллектуальный и волевой компоненты вины. Нет современных научных исследований, в которых изучались бы другие общие компоненты содержания вины как правового института и их особенности применительно к различным отраслям права.
Исследователи теории правонарушения и юридической ответственности касаются вины как основного элемента субъективной стороны состава правонарушения, как основания и одного из принципов юридической ответственности. Но в работах не делается общетеоретических выводов о вине. Авторы ограничиваются в лучшем случае краткой отраслевой характеристикой форм вины и особенностей установления вины в тех отраслях права, где теория вины уже и без того достаточно исследована (в уголовном, административном, гражданском праве), в худшем – констатацией того факта, что вина – это психическое отношение лица к совершенному деянию в форме умысла и неосторожности, и данный уголовно-правовой подход называют общепринятым, не подвергая его критике, распространяя, таким образом, выводы уголовно-правовой науки на другие отраслевые науки (в том числе гражданское право). Единственным диссертационным исследованием, посвященным вине как общеправовому институту, является проведенное еще в 2004 году исследование Г. Ф. Цельникера «Вина в российском праве (общетеоретический и исторический аспекты)»1. Автор уделяет особое внимание историческому аспекту вины. В работе подробно исследованы формы и виды вины. Рассмотрение же иных общетеоретических параметров вины, равно как и понятия и значения степени вины, не являлось задачей автора.
Для квалификации противоправного деяния важно не только установить вину субъекта в деянии, но и установить конкретную форму вины, что позволяет дифференцировать юридическую ответственность. Вопрос о формах вины в правоприменительной практике играет важную роль, так как напрямую влияет на судебное решение. Ряд положений уголовно-правовой науки используется в других отраслевых правовых науках: административном, финансовом, гражданском, трудовом, семейном праве. Необходимо с учетом отраслевой специфики исследовать особенности форм и видов вины как основного элемента субъективной стороны правонарушения.
На вину и ответственность оказывает непосредственное влияние психическое состояние субъекта правонарушения в момент совершения противоправного деяния. Традиционно об учете психического состояния лица принято говорить лишь применительно к понятию невменяемости в уголовном праве. Необходимо шире исследовать, как именно наличие у лица того или иного психического расстройства или иного состояния, влияющего на психику, учитывается в отраслевом законодательстве и правоприменительной практике, сделать вывод о связи вины и психического состояния субъекта правонарушения.
Ответственность юридических лиц имеет свои особенности в отдельных отраслях права. При этом решение вопроса о вине юридического лица усложняется наличием множества разнообразных концепций о сущности юридического лица как коллективного субъекта права. Выработка единой концепции вины юридического лица при привлечении его к юридической ответственности за нарушение действующего российского законодательства является в настоящее время актуальной проблемой как теории права, так и отраслевых наук.
В данном исследовании вина рассматривается на общетеоретическом уровне, дается общая характеристика всех ее основных параметров и особенностей в публичном и частном праве, что позволяет в дальнейшем использовать выработанные в работе положения для дальнейшего исследования отдельных параметров института вины в теории права и отраслевых юридических науках.
Глава 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИНЫ
§ 1. Вина в историческом контексте
1.1. Вина в римском и праве и праве средневековой Европы
Значение историко-сравнительного анализа возникновения, становления и развития института вины в законодательстве состоит в выявлении стабильных тенденций его эволюции. Такие тенденции позволяют относительно достоверно прогнозировать дальнейшее развитие института вины. Поэтому представляется целесообразным начать комплексное теоретическое изучение проблемы вины с исторического аспекта. Многогранность и масштабность проблем истории вины и виновного вменения в праве не позволяют в рамках данного исследования осветить их во всей полноте, а поэтому остановлюсь лишь на ключевых этапах становления и развития вины как социально-правового явления.
На ранней стадии развития родового общества нормативные основы деятельности индивидов определялись интересами всего общества, возникали естественным путем. Соблюдение первобытных норм обеспечивало в первую очередь выживаемость коллектива. Различные по характеру правонарушения не разграничивались. При наступлении вредных последствий не имело значения, привели к ним умышленные или неосторожные действия или это следствие несчастного случая, действия людей оценивались по объективным признакам, вне связи с сознанием и волей. Понятие вины при родовом строе отсутствовало. Г. Спенсер отмечал, что «пока среди обществ ведется деятельная борьба за существование, чисто животный элемент справедливости мало смягчается человеческим элементом»2.
Широко распространены была коллективная ответственность и кровная месть. За проступок одного из членов рода перед другим родом отвечали все его члены. Но постепенно происходил распад групповой целостности рода. Проступок, совершенный одним из членов рода, влек для всего коллектива негативные последствия, поэтому не одобрялся. В конце концов, группа отказывалась от защиты своего сочлена, делая его лично ответственным за свое поведение и выдавая для наказания3.
Развитию принципов индивидуальной и виновной ответственности способствовали римские юристы, обратившие внимание на волю человека. Теория вины разрабатывалась в римском частном праве.
В законе Аквилия (lex Aquilia, 286 г. до н. э.)4 была предпринята первая попытка установления ответственности за причиненный ущерб лишь за виновные (умышленные или неосторожные) действия лица5.
Первой в римском праве возникла умышленная форма вины – «Злой умысел» (dolus malus). Злой умысел определялся как воля совершить причиняющее ущерб действие, сознавая, что оно нарушает чужие права, и желательно как средство достижения цели6.
В современной литературе отмечают: не вполне ясно, что понималось под dolus, поведение лица или психическое отношение к нему7, так как термин обозначал и обман, коварство, хитрость8, и особый вид деликта – мошенничество9.
Позже появилась еще одна форма вины – culpa (неосторожность). Ответственность лица зависела от того, была ли нарушена норма общего характера, налагающая на каждого обязанность вести себя в обществе осторожно и предусмотрительно, т. е. обязанность предвидеть возможные вредоносные последствия своих поступков10. Эта форма вины устанавливалась, если лицо наносило вред другому без всякой мысли о том, исключительно вследствие нерадения»11, «если кто-либо заботился о чужом интересе менее того, чем вытекало из правовых предписаний в договорах доброй совести или норм обычного права при деликтных обязательствах»12.
Некоторые участники гражданского оборота не отвечали за неосторожно причиненный вред (например, хранители, землемеры), в связи с чем, с целью компенсации вреда, причиняемого их действиями, стали выделять, помимо неосторожности, грубую неосторожность – culpa lata. Под ней понималось отсутствие минимальной осмотрительности, продиктованной самыми элементарными правилами человеческого общежития, в котором выражались поразительное легкомыслие и равнодушие к интересам других лиц13.
Затем наряду с грубой неосторожностью в римском праве начали выделять вторую форму неосторожности – легкую неосторожность (culpa levis).
Если грубая неосторожность граничила с умыслом, но отличалась от него отсутствием прямого желания причинить вред14, то легкая неосторожность (или легкая вина) не имела такого тяжкого характера, ее критерием выступал рачительный хозяин, благоразумный человек15. Легкая неосторожность устанавливалась, когда не была проявлена мера заботливости, присущая доброму хозяину. Этот вид вины получил название culpa (levis) in abstracto, т. е. вина по абстрактному (отвлеченному) мерилу, установленному юристами16.
Наряду с грубой и легкой виной римское право знало и легчайшую вину (culpa levissima), при наличии которой отвечал господин, если его раб ранил или убил раба другого господина с его ведома. Однако широкого распространения эта форма вины не получила, а в договорные частноправовые отношения не проникла вообще17.
Вину исключал случай (casus). Общее правило ответственности заключалось в том, что за случай никто не несет ответственность, а имущественные потери ложатся на собственника вещи, что соответствовало принципу casus sentit dominus (случай поражает собственника)18.
По римскому праву возможно было наступление ответственности без вины – custodia. Так, хранитель нес ответственность за сохранность вещи и в случае ее повреждения или хищения третьими лицами.
Таким образом, в римском праве вина была именно психологическим основанием ответственности, определяла ее степень19. Д. В. Дождев пишет, что «субъективный критерий ответственности предполагает психическое отношение должника к нежелательному для кредитора событию: намеренное нанесение вреда (dolus) или небрежность, неосмотрительность, неопытность (culpa)»20. В основе вины находилась «сознательная упречность воли лица»21.
Рассолов М. М. делает вывод, что при умысле воля правонарушителя либо прямо, либо косвенно направлена на сознательное причинение вреда другому лицу путем лукавства, обмана или ухищрения. Неосторожность имеется налицо, если не было предусмотрено то, что могло быть предусмотрено заботливым человеком, или когда что-либо было объявлено лишь тогда, когда уже нельзя было избегнуть опасности22. Таким образом, в римском праве можно увидеть элементы интеллектуального и волевого компонентов вины.
В римском праве организованные коллективные субъекты (объединения граждан, обладающие определенными признаками) несли самостоятельно юридическую ответственность. Неорганизованные коллективные субъекты – социальные общности (семья, население территории) – никогда не были субъектами ответственности. Организованные субъекты несли только имущественную ответственность, возможность их привлечения к уголовной ответственности в римском праве не обсуждалась23.
Для раннефеодального права многих европейских государств было характерно разграничение форм вины. Так, вред, причиненный по причине вражды или коварства, влек более высокий штраф, чем небрежное причинение вреда. Но большее значение придавалось личности правонарушителя24 и объективным обстоятельствам правонарушения. Вина устанавливалась по признакам, никакого отношения к психическому отношению лица не имеющим, иногда даже с помощью жребия. В соответствии с принципом коллективной ответственности наказывались дети и иные родственники виновного, а также лица, присутствовавшие при совершении преступления.
Впоследствии учение римских юристов проникло в каноническое право. Принятие христианства и вытеснение языческих обычаев привели к исчезновению принципа коллективной ответственности. В соответствии с христианской доктриной поведение человека стало рассматриваться с точки зрения нравственных идеалов, а предметом суда становится грех преступления, совершенного человеком по своей воле. Таким образом, в законодательстве Средних веков виновность отождествляется с греховностью25.
В Средние века категория юридического лица впервые приобретает не свойственные ей функции, заменяя собой фактический коллектив как реальный субъект права. Если в римском праве коллективы наделялись качествами юридического лица исключительно для целей гражданского оборота, то сейчас корпорация рассматривается во всех ее проявлениях как единый юридический субъект, практические функции упрощения имущественного оборота отходят на задний план, уступая место целям публичным и политическим26.
В работах канонистов (Иннокентий IV) корпорация признается дееспособным, но не имеющим собственной воли субъектом, который не может нести самостоятельную ответственность. Поэтому в силу признаваемой законом фикции волеизъявление юридического лица заменяется волеизъявлением его органа или представителя27. Вина юридического лица определяется по вине его участников.
На основе римского права и положений, выдвинутых Иннокентием IV, Ф. К. Савиньи в Новое время обосновал свою теорию олицетворения, воспринятую законодателем в первой половине XIX века. Юридическое лицо – это личность вымышленная, реально не существующая, это фиктивный субъект, допускаемый только для юридических целей. Как простая фикция юридическое лицо не может иметь сознания и воли и, следовательно, недееспособно; этот недостаток дееспособности восполняется представительством. Противоположные взгляды на сущность юридического лица представителей различных школ права: германистов, романистов и других – так или иначе основаны на том, что юридическое лицо – это не вполне реальный субъект права28.
1.2. Вина в российском дореволюционном праве
В начале развития древнерусского права карательная деятельность государства заключалась лишь в том, чтобы регулировать проявления мести обидчику со стороны потерпевшего или его родственников, поэтому вина как внутреннее отношение лица к деянию вообще не имела значения29. Причинитель вреда наказывался независимо от того, желал он нанести этот вред или нет, даже если вред причинен случайно. Наказывались безумные, дети, животные. Если виновник по какой-то причине умирал, то обиженный мстил членам его рода30.
В период действия Русской Правды уголовное правонарушение в законе не отграничивалось от гражданско-правового. Субъективная сторона преступления включала умысел или неосторожность. Корыстный умысел был отнесен к отягчающим вину обстоятельствам. Под виной понимался факт причинения вреда, само правонарушение31, психическое отношение лица к деянию также значения не имело32. Долгое время в праве господствовало объективное вменение, виновность не отграничивалась от мотивов правонарушения. При определении меры ответственности поведение оценивалось по внешним признакам, например алкогольное опьянение смягчало ответственность33.
В системе наказаний по Русской Правде существовал особый вид виры (штрафа) – «дикая», или «повальная». Она налагалась на всю общину, если община не выдавала своего члена, подозреваемого в убийстве, или не могла отвести от себя подозрения. Таким образом, все члены общины были связаны круговой порукой34.
С возрастанием значимости в законодательстве государственных интересов приоритеты сдвинулись с защиты частных лиц на защиту интересов государства и общества, а государство приобретало все большую власть над обществом. В Судебниках 1497 и 1550 годов виновность определяется как определенное состояние лица, проигравшего дело, а затем и как условие ответственности личности. Значительно более подробно были определены субъективные признаки преступления, разработаны формы вины35.
Термины «преступление» и «вина» появились в юридических текстах в конце XVI века, но для установления вины значение имела не столько злая воля преступника, сколько степень нарушения общественного интереса. Необходимость выяснения формы вины предписывалась и в судебных актах36.
Следующим нормативным актом комплексного характера, содержащим положения о вине, стало Соборное уложение 1649 года37. Все большее значение придавалось защите общечеловеческих ценностей: жизни, здоровья, чести и достоинства граждан.
Ответственность за содеянное дифференцировалась в зависимости от степени вины, различались неумышленное, умышленное и случайное совершение деяния. Но за неосторожные деяния совершивший их наказывался так же, как за умышленные, что связано с принципом объективного вменения: наказание налагалось за результат действия, а не за его мотив.
В Уложении впервые в законодательстве был закреплен принцип индивидуализации ответственности за преступления, который распространялся даже на преступления против государства, в отношении которых долгое время действовал принцип коллективной ответственности. Однако сохранялся институт ответственности третьих лиц. Так, поручительство в значительной мере походило на ответственность поручителя за правонарушение лица, за которого он поручился38.
Дальнейшее развитие институт вины получил в эпоху становления абсолютизма. Основными нормативными документами того времени, содержащими нормы о вине, были Артикул воинский39, Краткое изображение процессов или судебных тяжб40 (1715 г.) и Указ о форме суда (1723 г.)41. Продолжало действовать Уложение царя Алексея Михайловича.
По законодательству Петра I уголовная ответственность лица ставилась в зависимость от его вины, в нормах Артикула воинского говорилось о наказании только виновных людей: «наказание исполнитца над виновным по делу и состоянию оного, и какую вину в том имеет, или тюрьмою, денежным наказанием, шпицрутеном или сему подобным»42.
В Воинских артикулах впервые в российском законодательстве появились нормы об учете психического состояния лица, привлекаемого к ответственности. «Умалишенные» или освобождались от ответственности, или им назначалось более легкое наказание в зависимости от совершенного преступления (артикул 195)43. При назначении наказания учитывалось психическое отношение лица к деянию и его последствиям, давалась оценка способности лица самостоятельно определять линию своего поведения (свобода воли). Вменяемость понималась как способность отдавать отчет своим действиям, она являлась условием признания лица в полной мере виновным44.
В законодательстве Петра I впервые были отражены основы аффектированного умысла: «Ежели кто другого, не одумавшись с сердца, или опамятовась, бранными словами выбранит, оный перед судом у обиженного христианское прощение имеет чинить и просить о прощении»45.
М. С. Строгович полагал, что Артикулы содержали основы современной презумпции невиновности: «лучше десять виновных освободить, нежели одного невиновного к смерти приговорить»46.
Изменения, введенные петровским законодательством, оказали огромное влияние на дальнейшее развитие института виновности. Но, несмотря на установление в законе принципа индивидуальной ответственности, и в законодательстве, и в практике продолжал действовать принцип объективного вменения.
Неосторожные действия нередко наказывались так же, как и умышленные. Более того, уголовная ответственность могла наступать даже независимо от наличия вины. Преследуя цель искоренения преступности и установления порядка в государстве, суды, как и прежде, уделяли основное внимание результату действия, а не его мотиву.
Законодательство Петра I продолжило традицию применения принципа коллективной ответственности: очень часто заставляло отвечать за действительных виновников или вместе с ними их жен и детей, родственников и свойственников, иногда даже посторонних им лиц47.
При рассмотрении дел, связанных с дезертирством военнослужащих, применялся институт децимации. Во-первых, казнили главу полка или роты, во-вторых, из рядовых по жребию выбирали и казнили каждого десятого, а остальных наказывали иным способом. При этом закреплялась возможность доказать отсутствие своей вины и получить пощаду (артикул 97)48.
Дальнейшее развитие принципы индивидуализации ответственности и субъективного вменения получили в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года49. Под виной понималось умышленное или неосторожное отношение лица к деянию. Выделялись следующие формы вины: умысел (с заранее обдуманным намерением или с внезапным побуждением) и неосторожность (при которой последствия деяния не могли быть с легкостью предвидимы или при которой вредных последствий невозможно было предвидеть вообще).
Учитывалась мера вины (глава 3, отдел 3), приводились обстоятельства, ее увеличивающие и уменьшающие. Так, умысел и высокая степень безнравственности побуждений (мотивов) учитывались в качестве отягчающих обстоятельств. Невежество, легкомыслие, состояние аффекта смягчали наказание (глава 3, отделы 4 и 5)50.
В Уложении были перечислены случаи, при которых «содеянное не должно быть вменяемо в вину»: случайность, безумие, необходимая оборона, непреодолимая сила освобождали от уголовной ответственности.
Но Уложение так же, как и предыдущие нормативные акты, не отошло полностью от принципа объективного вменения. Исключения из принципа вины как следовали прямо из норм закона, так и выводились путем толкования норм. Так, например, штраф (пеню), назначенный юридическому лицу, обязаны были уплатить все его члены, их личная виновность при этом не учитывалась. При этом штраф платили и те лица, которые не знали и не могли знать о совершении правонарушения, а также и душевнобольные51.
В 1903 году коллективом отечественных ученых-юристов: Н. А. Неклюдовым, Н. Д. Сергиевским, Н. С. Таганцевым, И. Я. Фойницким – был подготовлен проект нового Уголовного уложения, который содержал нормы, определяющие конкретные критерии вменяемости – юридический и медицинский; обстоятельства, исключающие уголовную ответственность; возрастные границы привлечения к уголовной ответственности.
Предложенный проект нашел свое отражение в принятом 22 марта 1903 года Уголовном уложении52 лишь частично. Понятие вины в нем близко к современному, вина определялась как внутреннее отношение лица к совершенному деянию в форме умысла или неосторожности53. Умысел уже не делился на заранее обдуманный и внезапно возникший. Виды неосторожности выделялись следующие: преступная небрежность (не предвидел последствий, хотя должен был и мог их предвидеть) и преступная самонадеянность (предвидел наступление последствий, но легкомысленно рассчитывал их предотвратить).
Уголовным уложением провозглашались отказ от принципа объективного вменения, принцип индивидуализации наказания.
В отличие от уголовного законодательства, дореволюционное гражданское право исходило из того, что обязательства должны исполняться надлежащим образом. По причине неопределенности и краткости законодательных положений степень вины должника в должной мере не учитывалась54, что критиковалось практически всеми цивилистами55.
Но уже при подготовке проекта Гражданского уложения 1905 года56 в центре внимания его разработчиков оказались вопросы вины и ее влияния на гражданско-правовую ответственность. В результате была выработана норма, в соответствии с которой должник отвечает за убытки, причиненные верителю неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, если не докажет, что исполнение обязательства вполне или в части сделалось невозможным вследствие такого события, которого он, должник, не мог ни предвидеть, ни предотвратить при той осмотрительности, какая требовалась от него по исполнению обязательства (случайное событие). Вопрос же о том, не исполнил ли должник обязательство с умыслом причинить верителю убытки или без умысла, а лишь относясь безразлично к сознаваемому или невыгодному положению верителя, не получающего удовлетворения, не имел никакого значения для имущественной ответственности. Общим правилом для признания должника, соответственно, виновным или невиновным в неисполнении обязательства проект российского Гражданского уложения признавал отвлеченное понятие о степени осмотрительности рачительного, заботливого хозяина57.



