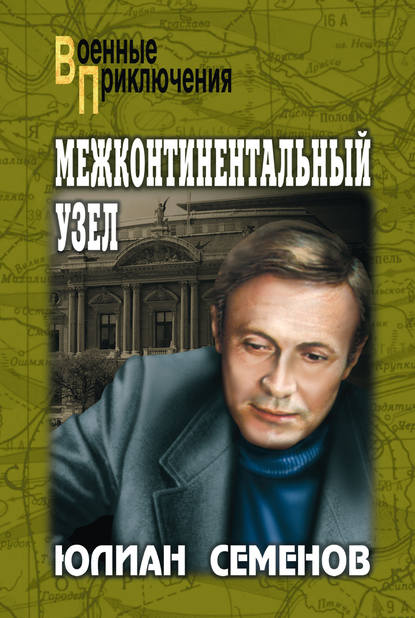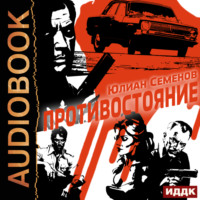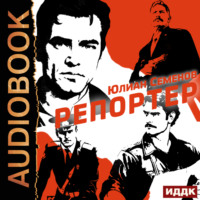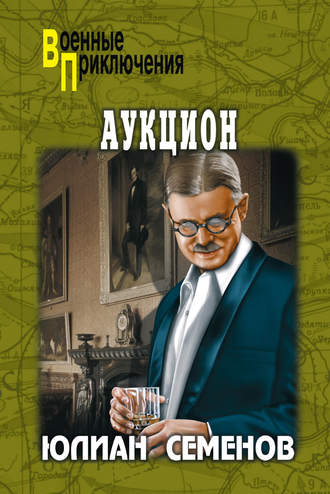
Полная версия
Аукцион
– Увы, мне чаще приходится иметь дело с теми, чьи взгляды совершенно не совпадают с моими.
– Сочувствую. Формулируйте вопросы, мне приятно быть вам хоть в чем-то полезным… И запишите фамилию: Грешев Иван, живет в Лондоне; Челси, Холливудроуд, возле лучшего китайского ресторанчика «Голден дак»; без почтового индекса в Лондоне запутаешься, так что запишите: эс дабл-ю десять девять эйч ай. С Грешевым надо заранее списываться о встрече, он поразительный знаток русского искусства конца прошлого века, его информация абсолютна.
6
Вернувшись в офис после ужина, Фол попросил дать ему новую информацию – если она, понятно, поступала – на Фрица Золле; написал телеграмму в гамбургское представительство (работает «под крышей» Немецко-американского института по «исследованию проблем океанского судоходства», охватывает регион от Бремена до границы с ГДР), в которой сформулировал аспекты своего интереса к Золле, затем набросал план завтрашнего разговора с шефом и лишь после этого поехал домой.
…Председатель Совета директоров выслушал Фола внимательно, с улыбкой, поинтересовался:
– На самом деле вы слабо верите в возможность русской шпионской сети? Я имею в виду группу Степанова, Золле, Ростопчина. Признайтесь, Джос, вы же не верите?
– Слабо верю. Но я не отвергаю такого рода вероятия.
– В конечном счете нашу фирму не очень-то волнует шпионаж, даже если бы он и был. Пусть себе, только б не мешали нам работать с корпорацией ДТ.
– Пусть себе, – кивнул Фол, – согласен.
– Хочется прокатиться в Европу?
– Нет. Я там был прошлым летом. Я устаю от Европы. Лучше всего я чувствую себя в этой стране… Просто-напросто альянс красного писателя с русским аристократом, живущим по швейцарскому паспорту, глубоко верующим, и немецким историком представляется мне более опасным, чем шпионская сеть…
– «Третья корзина» в Хельсинки и все такое прочее? – вздохнул председатель совета. – Что ж, хорошо думаете. Такого рода контакт конечно же беспрецедентен, а потому любопытен для нашего бизнеса. Когда намерены лететь?
– Я доложу. Главное, что вы поддержали меня, спасибо…
7
Редактор, старый знакомый, Андреев, выслушав Степанова, покачал головой:
– Митя, побойся Бога, о чем ты?! Мы съели все наши валютные запасы в первом квартале. Я отправлял Игоря на Ближний Восток, а Ваню в Латинскую Америку… Я могу финансировать твою поездку в Лондон только осенью.
– Но ты ведь понимаешь, что мне не нужен Лондон осенью?! Он нужен мне в мае, в начале мая, я ж объяснял тебе! Клянусь, материал будет сенсационным.
– Можешь не клясться, я тебе верю на слово. Ты вольный художник, ты не знаешь, что такое план и смета, ты не имеешь представления о режиме валютной экономии.
– Сам просился в это кресло, – ответил Степанов. – Мог бы сидеть дома и писать книги.
– Не доставай, Митя, не надо. Если у меня что-либо получится с фунтами, я позвоню тебе. Ты сейчас где обитаешь?
– В мастерской, где ж еще…
– С Надеждой в разводе?
– На Западе это называют: «живем сепаратно».
– Большой ты мастер на формулировки, Митя…
Как же он изменился, подумал Степанов, наблюдая за тем, как Андреев метался от одного телефонного аппарата к другому; голос менялся в зависимости от того, кто звонил; пятьдесят четыре года, а с начальством говорит, будто школьник; но ведь это не всякому начальству нравится, – рано или поздно глупых начальников все-таки погонят; и с подчиненными не надо б так уж иронизировать; поддевать можно равных, тех, кто ответит тем же; ты б начальство поддевал, так ведь нет же, стелешься. Доктор наук, писатель, публицист… Неужели поддался вирусу чинопочитательства? Жаль, Поначалу-то оправдывал себя тем, что «не надо пускать на ключевые посты дрянь». (Верно, кто спорит, их только пусти – с нашей-то демократией, – потом не снимешь, надо трудоустроить, и чтоб все было так же хорошо с зарплатой, и чтоб блага и машина…) Но, судя по тому, как и с кем он разговаривает, былые добрые намерения уступили место суровым будням, жизнь есть жизнь, она мнет человека под себя, ломает, как хлеб, стоит лишь пойти на сделку с совестью в самой малой малости.
Степанов вспомнил, как они познакомились с Андреевым четверть века назад; в мазохизм потянуло, сказал он себе, обязательно «четверть века», не мог разве употребить спокойное слово «давно»? Андреев был тогда душою компании; никто так не умел вести застолье, танцевать, шутить, как он; никто не умел так поджарить бараньи ребрышки, взятые за бесценок в «кулинарии», или сварить пельмени; никто не был так щедр в советах и помощи…
Потом он надолго уехал за границу; вернулся; встретились в Доме журналистов, Андреев достал какую-то мудреную книжечку (Степанов раньше таких и не видел), перебросил пару страниц, пояснив, что это «денник» – расписание встреч, звонков, памятных дат (не забыть, кого и когда поздравить), сказал задумчиво, что послезавтра в семнадцать тридцать у него есть «окно» и он был бы рад выпить со Степановым чашку кофе.
Степанов ощутил какую-то холодную пустоту: перед ним был Андреев – прежний, красивый, лысеющий, резкий в движениях, но в то же время это был совершенно другой человек, записывающий дату встречи с другом в «денник», в то «окно», которое свободно от деловых свиданий и нужных звонков.
Степанов тогда еще подумал: «А может, он и раньше был таким, просто был вынужден играть роль рубахи-парня?» Сразу же одернул себя: «Ты не смеешь так думать о том, кого называл другом; обида – плохой советчик в человеческих отношениях, но, с другой стороны, человек, не умеющий обижаться, есть явление зловредное; приспособленец и конформист».
– Завтра созвонимся, – сказал Андреев.
– Когда?
– Вечером.
– Конкретно?
– Возле десяти, идет?
– Буду ждать.
На телевидении посмеялись:
– Товарищ Степанов, у нас же в Лондоне сидят корреспондент и оператор! Мы могли бы послать вас туда, где нет наших людей… Да и то надо все это обговорить в начале года, когда утверждается план поездок…
– Но в начале года никто не знал, что аукцион состоится в Лондоне… И что на нем будут торговать Врубеля. Того, который – вполне возможно – был украден в одном из наших музеев.
– А сколько он стоит? Тысячи. Откуда деньги? Кто даст?
– Это моя забота.
– То есть?
– Моя забота, – повторил Степанов, – не хлебом единым жив человек. Есть на земле добрые души, которые радеют о русском искусстве не словом, а делом…
В Госкино предложили командировку в Лондон на второе полугодие, – вопрос отпал сам по себе; в Министерстве культуры назвали Эдинбургский фестиваль, сентябрь, очень интересно, съезжаются лучшие музыканты мира, попробуем включить в делегацию.
Степанов слушал собеседников, а в ушах его звучал голос Ростопчина: «Приезжай восьмого вечером, жду в холле отеля “Кларидж”, это совсем неподалеку от Нью-Бонд-стрит, именно там в Сотби станут торговать Врубеля и других русских художников, будем сражаться».
…Во Внешторгбанке девочки-операторы выдали справку: на его счету, куда ВААЛ переводил деньги западных издателей, осталось сто двадцать долларов; при том, что отель в Лондоне стоит не менее сорока долларов, а ужин в самом дешевом ресторане, китайском, потянет десять, пускаться в предприятие довольно рискованно.
Стоп, сказал себе Степанов, вернувшись домой; не пори горячку; не паникуй. У тебя еще есть время. Езжай на Тишинский рынок, купи творога, зелени, сметаны, устрой царский пир, достань записные книжки и толком подумай, кто может тебя поддержать. Не надо смотреть записные книжки, возразил он себе: там еще есть телефоны Левона Кочаряна, Романа Кармена, Володи Высоцкого, Сани Писарева, Славы Муразова, Олега Даля, Виля Липатова, Господи, сколько же друзей ушло, а телефоны остались; самое страшное – звонок в пустоту.
(Он отчего-то явственно вспомнил, как хоронили режиссера Ивана Пырьева; после гражданской панихиды Марк Донской поцеловал его в лоб и тихо сказал:
– До свидания, Ваня.)
…Степанов ощутил усталость в теле и понял, что не станет натягивать кеды, и не побежит свои обязательные километры, и снова будут холодеть руки и ноги, и появится туман в голове.
Но он все-таки заставил себя поехать на Тишинку; куплю мацони, яиц и помидоров, попрошу в закусочной крупной соли, разложу все это на газете, постою за трапезой, столь любимой ранее, и посмотрю на рынок.
Он прошел по рядам; в кооперативной палатке продавали старую картошку, но никто не брал ее, предпочитали хоть и дороже, но взять у колхозника свежую; страшная это штука – девальвация доверия. Инфляцию можно остановить, коли не бояться инициативы и контролировать самих себя рынком, а вот как задержать девальвацию доверия?!
Торговля была ленивой; не было перебранок, ажиотажа в битве за копейку; вопрос – ответ; великая скука, ленивая деловитость. И никогда я не смогу понять, отчего милиция гоняет на Кавказе старух с горячей кукурузой?! Ну почему?! В Таганроге теснят дедов с воблой, в Индюке – бабок с алычой; в Понырях, которые всегда славились картофелем, оттирают молодух с кошелками, но зато разрешают продавать соленые огурцы или сливу. Почему?! Законы страны «нельзянии»? Щедринское – «не дам, не пущу, не позволю»?! Не пора ли переиздать классика и заставить читать его вслух не только на уроках в школе, но и в исполкомах и сельсоветах, – тогда меньше будут катить бочек на нас; все это уже было, до нас было, в прошлом веке, до ужаса похожее, кого ж в этом винить?!
…И хотя было солнце и день обещал быть славным, не было Степанову радости на Тишинском базаре, не было ощущения предстоящего праздника. А ведь каждый день мог бы быть праздничным, таким нежным, таким завтрашним, как нигде в мире (самые праздничные дни, пожалуй, были на Николиной горе, в сентябре того далекого года, когда Степанов впервые увидел Надю, но они еще не принадлежали друг другу по жестоким людским законам, следовательно, не имели прав друг на друга и не смели задавать вопросы, похожие на те, что задают следователи, призванные поймать и изобличить, а могли только беседовать о прошлом или мечтать о будущем.
Когда же в любви появляется собственник? Когда начинается драка за обязательность своего?).
8
…Федоров пришел в новую газету с первой «командой»; пересидел всех редакторов, стал наконец шефом, быстро обрел «начальственную форму» и поэтому слушал Степанова с плохо скрываемым раздражением; передвигал на большом полированном столе приборы, то и дело поправлял стопку бумаги, ровняя ее так, словно бы готовился продать придирчивому клиенту, а потом все же не выдержал, прервал:
– Слушай, Дмитрий Юрьевич, давай-ка я внесу тебе встречное предложение, а?
– Давай, – согласился Степанов, поняв уже, что он зря пришел сюда.
– Хочешь, я дам тебе командировку на Кубань? В Сибирь? На Ставрополье? Напиши о посевной. Или о том, как решается дело с культурным охватом тружеников полей. О новом в сельском строительстве. О бригадном подряде. Наконец, о нерешенных проблемах экономики.
– Ладно, – легко согласился Степанов. – Напишу. А ты съезди в Лондон и постарайся вернуть Врубеля. Уговорились?
– Пусть этим делом Министерство культуры занимается, это им вменено в обязанность. Им, а не тебе. И не мне.
– «Вменено в обязанность», – повторил Степанов. – Каждому человеку вменено в обязанность то, что он, как гражданин, считает долгом себе вменить. И никак иначе. Если иначе, то дров много наломаем; хватит, наломали уж, когда ждали вменения обязанностей сверху, директивно. Что касаемо проблем села, то я – увы, не специалист – вижу один и тот же вопрос сугубо нерешенным и в промышленности, и в науке, и на селе: недоверие к руководителю, мелочность опеки, страх перед заработком, оппозиция инициативе. Если руководитель сможет платить хорошему рабочему премию не в сумме семи рублей десяти копеек, а тремя, пятью зарплатами, если он получит право держать столько рабочих, сколько нужно делу, а не по штатному расписанию, для удобства статистической отчетности, если инициатива будет гарантирована законом о трудовых доходах, только тогда мы пойдем вперед – воистину семимильно.
– Ты зря сердишься, товарищ Степанов. Не обижайся, но я действительно считаю литературу о рабочем классе, о селе ведущей. Остальное – гарнир. Нужный, не спорю, но – гарнир.
– А я полагаю, что важнее всего литература для рабочего класса и крестьянства. Ты не считай рабочий класс приготовишкой от культуры. Ты верь ему, а не клянись им. Он сам разбирается, какая литература ему нужна, а какая – нет. Послал бы своего корреспондента на книжный рынок, там бы и можно было узнать, какую литературу втридорога покупает рабочий, а какую тащит на макулатуру.
Федоров откинулся на спинку стула, прищурился, впервые посмотрел прямо в глаза Степанову:
– Ну и какую же тянет на макулатуру?
– Спекулятивную.
– Это как понять?
– Да очень просто. Это, в частности, когда литератор описывает в романе технологию производства стали, лампочек или шин там каких… Надо уважать читателя, пора, он заслужил это. Или же согласиться с тем, что никакой культурной революции у нас нет, как были тмутараканью, так и остались.
– Демагогия это.
– Почему? Обнажение проблемы, всего-навсего. Ты сам-то, товарищ Федоров, обливаешься слезами над романом про то, как главный инженер бьется с директором, который консерватор? Или к Пушкину припадаешь, который все больше разбирался с проблемами политики, любви, истории, этики? – Степанов поднялся. – Жаль, что пришел к тебе. Перед дракой не надо отвлекаться на ненужные стрессы. Ей-богу, жаль.
– Да и мне твой визит радости не доставил, – откликнулся Федоров.
– Вот и обменялись откровениями, – согласился Степанов. – Но самое досадное в том, что тебе никто не вменял твоего отношения к тому делу, которым пытаюсь заниматься я. Это твое мнение, твое кредо. На этом ты и провалишься, помяни мое слово. Дремучесть, а равно изоляционизм в наше время непатриотичны и оттого – наказуемы. Рано или поздно.
9
…Конечно же спас предприятие Андрей Петрович – седовласый, моложавый, собранный, элегантный (только на пляже Степанов увидел, как изранено и обожжено его тело); начал войну на рассвете двадцать второго июня, горел в танке, партизанил, освобождал Польшу, закончил Парадом Победы; Чрезвычайный и Полномочный Посол в прошлом, начальник союзного главка, член ЦК.
– Все понимаю, – сказал он, выслушав Степанова. – Какой реальный прок от вашего вояжа можно ждать? Какую выгоду – помимо попытки спасения Врубеля – получит мое ведомство? Если бы вы провели пресс-конференцию о культурных программах в нашей стране, о новых фестивалях в Ленинграде и Крыму, о готовящемся юбилее Новгорода, – как-никак вторая тысяча лет идет Господину, – о Пушкинских днях в Михайловском, тогда мне с руки войти с предложением о вашей командировке в мае. Готовы к такого рода уговору?
– Конечно.
– Успеете подготовиться?
– Постараюсь.
– Я попрошу наших товарищей из управления культуры подобрать кое-какие материалы. Пригодятся?
– Еще как.
– Думаете писать об этом?
– Вряд ли, Андрей Петрович… Просто сердце рвет, когда видишь наши картины там… Убили вдову Василия Кандинского, года три, что ль, тому назад, лучшие его вещи она держала в сейфе, в банке, кажется, в Цюрихе; то, что украли в доме у старушки, как в воду кануло: ни один музей не купит, только частная коллекция, а это гибельно для памяти о живописце.
– Не каждый решится покупать такие вещи, скупка краденого у них тоже порицаема.
– Не везде. Если доказать, что вещь была у вас в доме более тридцати лет, то изъять ее по суду невозможно… Мой друг из Гамбурга, исследователь Георг Штайн, вытоптал икону четырнадцатого века, Иверскую; нацисты вывезли из Пскова. Она оказалась в молельне кардинала Соединенных Штатов Спэлмана… Писал, требовал вернуть похищенное в русский храм, без толку. Обратился к папе. После этого семья покойного кардинала подарила икону в церковь Сан-Франциско, все вроде бы соблюдено, ушло к православным, а там и по-русски-то никто не говорит, старшее поколение повымирало, а молодые языка не знают, прилежны той культуре, а не нашей, о войне знают понаслышке…
– Трагедия современной войны заключается в том, что сразу же перестанет поступать свет, вода и тепло, – задумчиво, словно бы продолжая разговор с кем-то, заметил Андрей Петрович. – Нынешняя война – это уничтожение детей и стариков – в первую очередь. До начала Отечественной в городах еще были колодцы; газ считался новинкой; в деревнях хлебы пекли; а сейчас? Как жить без привычного водопровода, электричества и газа? Это ведь конец, гибель… Рейган не может представить себе, что это такое, но ведь европейцы должны помнить войну?
– Поляки помнят… Югославы… Норвежцы… Французы… Лондон не знал оккупационного статута, но помнит гитлеровские фау.
– Бонн знал и оккупационный статут, и бомбежки, и голод… Они-то о чем думают?
– Слишком крепко повязаны с Белым домом, план Маршалла уже в сорок седьмом начался. Но мне сдается, западные немцы рано или поздно осознают свою значимость в раскладе сил мира.
– Политика берет в расчет очевидность, – улыбнулся Андрей Петрович. – Особенно нынешняя политика сверхскоростей… Пока-то вызреет тенденция, наберет силу, пока-то станет реальностью. Экономику Франции кто расстреливает? Или Испании? То-то и оно, что не французы с испанцами. С реальностью бороться трудно, с тенденцией – куда легче. А возьмите реальность американского консерватизма? Он проистекает из инерции страха и соперничества, а такие черты характера чаще всего приложимы к неблагополучным людям, к обездоленным группам населения, которые живут под секирой постоянной неуверенности в завтрашнем дне, считают, что «раньше было лучше»; отсюда – один шаг до реакционности, которая мечтает реставрировать то, что было в пору дедов и прадедов. Консерваторам легче править, опора на молчаливое большинство. Когда наши внуки мечтают жить в условиях рыцарства Айвенго или удалого гусарства Дениса Давыдова – это одно дело, а вот если президент не может признать допустимым то, что не укладывается в его сознании, если он хочет возвратить свою страну к тому моменту, когда, по его мнению, нация отклонилась от истины, тогда вызревает конфликтная ситуация. Трагизм правого консерватизма наиболее выпукло вызрел в Генри Форде – махровый реакционер, склонный к крайним мерам во имя того, чтобы удержать традиции, хотя то, что он сделал для Штатов, на самом-то деле революционизировало страну, вывело ее к решению совершенно новых проблем. И поставил точки над «и» здравомыслящий Рузвельт, которого Форд активно не любил. Любопытно, знаете ли: американские либералы ставят на примат государственной стратегии, на сильное правительство, которое сумеет вывести страну из тупика, а консерваторы уповают на челюсти и мускулы каждого способного действовать круто и резко – возвращение к временам Клондайка…
Степанов покачал головой:
– Это вы подвели меня к тому, что сейчас важнее борение реакционной и либеральной устремленности в Штатах, чем сшибка социалистических тенденций Западной Европы с консервативной демохристианской явью? Положили литератора на лопатки?
– Отнюдь. Высказал свою точку зрения, кто знает, может, пригодится для размышлений, особенно если придется спорить в Лондоне. Я, знаете ли, отношусь к спору не как к гладиаторству, когда один обязательно гибнет; спор помогает понять суть, в этом его ценность… Я попытался выстроить некую схему американского консерватизма, во внешней политике в первую очередь. Пугает метание: то провозглашение абсолютного изоляционизма, то, наоборот, перенос политической активности в Старый Свет, – безусловное и немедленное освобождение Восточной Европы от коммунистов, то тактика сдерживания Советского Союза, потом – война во Вьетнаме, которая сделалась национальной катастрофой; как выход из нее – разрядка; а ныне приглашают к крестовому походу против нас с вами, исчадий ада. Чего ждать дальше? Куда их нелегкая поведет? Все понимаю, – национальная усталость, разочарование в идеалах, рост антиамериканизма в мире, хочется как-то помочь делу, но ведь самая страшная угроза шарику заключается не в словах, а в том, что у Белого дома нет реальной внешнеполитической концепции, сплошные эмоции, прямо-таки царство женщин, загримированных под ковбоев. И еще: когда правый ультра Уоллес нападает на государственный аппарат, как на самых страшных врагов, охранников либерализма и демократии, я вспоминаю Германию начала тридцатых годов, Дмитрий Юрьевич… Я очень боюсь того, что там, за океаном, появятся люди, крепкие люди, которые станут играть на нынешней конъюнктуре, играть круто, и привести это может к неуправляемым последствиям…
II«Дорогой Иван Андреевич!
Нет сил видеть трагедию, разыгравшуюся ныне в Нижнем Новгороде, на “Всероссийской Промышленной и Сельскохозяйственной выставке”.
Савва Иванович Мамонтов, имеющий, видно, добрые отношения с министром финансов Сергеем Юльевичем Витте, чувствовал себя здесь хозяином, но таким, которого отличают такт и доброжелательство, что вообще присуще истинно русскому интеллигенту, по-настоящему радеющему о культуре. Он и привлек к росписи павильона, посвященного Крайнему Северу, своего любимца Константина Коровина, а огромные панно в центральном павильоне поручил Врубелю. Конечно, только Мамонтов мог позволить себе такое, но даже он переоценил свои силы. Когда старики-академики развесили в центральном павильоне свои картины в громадных рамах, они оказались раздавленными Врубелем. Работает он с невероятной скоростью и не считает нужным скрывать этого. Представляете, как это злобит его многочисленных врагов?! На одной стене наш сюжет, русский. А на противоположной – панно «Принцесса Греза», по Эдмонду Ростану. Он, кстати, сам и перевод сделал. Тот, что опубликовали, не понравился ему; французский, латынь он знает, как русский, в совершенстве; по-моему, и немецкий чувствует великолепно, поэтому ростановскую вещь сделал мастерски, лучше наших литераторов. Вообще же, коли говорить о иерархии в мире искусств, то, бесспорно, на первом месте стоит музыка, на втором живопись и лишь на третьем литература. Ведь ни Бах, ни Мусоргский перевода не требуют, они входят в сердца и души сразу же и навсегда. Живопись имеет какие-то границы, фламандцев отличишь от испанцев немедля, как и Врубеля от Мане. А литература более субъективна в восприятии, да и перевод потребен отменный, соответствующий уровню созданной прозы. Кстати, и здесь Врубель эпатирует общественность, браня повсюду Толстого: мол, пристрастен, Анну Каренину не любит, оттого и бросил ее под поезд, князя Андрея терпеть не может, потому и заставляет его, несчастного, мучиться в лазарете. Признает только “Севастопольские рассказы”. Считает, Толстой воспарил, присвоив себе функции высшего судии, а сие, по его мнению, от папства. Достоевского тоже костит, нерусский, мол, конструирует характер, подделка под Запад, коммерция, оттого так в Лондоне и нравится. Зато Гоголя знает наизусть; читая, плачет и смеется, как ребенок.
Отвлекся. Это я с силами собирался, чтобы рассказать про то, что разыгралось на моих глазах.
Гроза начала собираться, когда приехали старцы из Академии, дабы самолично наблюдать за развескою своих картин. Когда Коровин пришел в павильон (Врубель в то время работал под потолком, на лесах, как только не сверзился, сделаны шатко, все скрипит, шатается!), поглядел на привезенные работы, – сплошь мундиры с крестами или же безоблачные дали, и то, и другое зализано отменно, – лицо его помрачнело.
“Зарежут Врубеля, Вася, – сказал он мне, – не простят, что его панно давят этих лилипутов”.
Я, признаться, решил, что живописец, как и всякий человек искусства, склонен к преувеличениям, и не поверил ему. Действительно, что можно сделать с готовой уже работой, поражающей каждого, кто входит в павильон?!
Однако по прошествии немногих дней я лишний раз убедился, что художник всегда чувствует точнее, чем мы, грешные.
Старцы из Императорской Академии объявили, что не желают выставлять свои картины рядом с “декадентским безобразием” Врубеля. Кто-то подсказал им, что решение Сергея Юльевича Витте об оформлении павильонов не согласовано с Императорской Академией. Была создана специальная комиссия, которая прибыла в Нижний Новгород и сразу же забраковала панно Врубеля, как “чуждые духу Православия, Самодержавия и Народности”.
Бедный Врубель впал в прострацию, начал прикладываться к бутылке, и что б с ним стало, не знаю, – сначала травили в Киеве, запретив роспись Собора, травят постоянно в повременной печати за “декадентство” – не покровительствуй ему Мамонтов и не обожай его наш добрый Поленов. Оба бросились в бой, каждый по-своему. Мамонтов отправился к Витте, Поленов – к Врубелю, опекал его, как добрый дядька, не отходил ни днем, ни ночью. Витте, выслушав Мамонтова, обещал подумать. Положение его трудное, как-никак живописью распоряжается не кто-нибудь, а Великий Князь, его слово есть истина в последней инстанции. А Мамонтов, закусив удила, не стал дожидаться решения вопроса в Сферах, вернулся в Нижний и, не скупясь на “борзых” для местного начальства, арендовал пустырь возле Всероссийской выставки. Несмотря на всю нашу азиатскую неповоротливую косность, Мамонтов прямо-таки пробил разрешение властей и в несколько дней построил павильон специально для панно Врубеля. И повелел у входа повесить огромную вывеску: «Выставка декоративных панно художника Врубеля, забракованных жюри Императорской Академии Художеств».