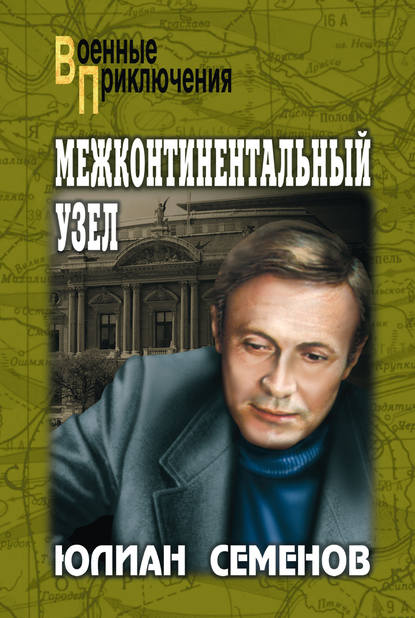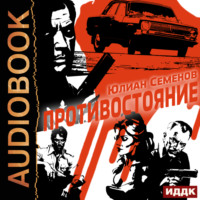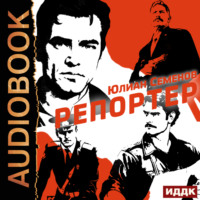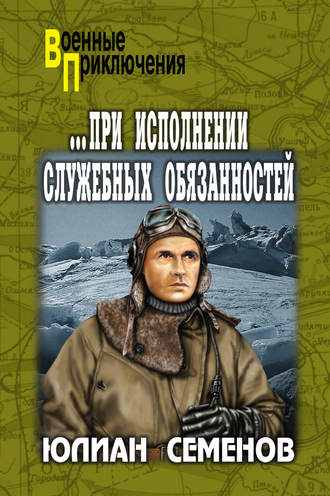
Полная версия
При исполнении служебных обязанностей. Каприччиозо по-сицилийски
– Дед, – просили уголовники, когда Богачев вернулся к себе, – станцуй нам падеспань, а мы тебе похлопаем.
– Да что вы, ребятки! – сказал дед. – Не надо.
– Танцуй.
– Не умею я…
– Танцуй, падла!
Богачева подбросило. Он ворвался в соседнюю комнату, и через минуту один из уголовников лежал на полу с разбитым лицом, а другой, стараясь вырваться из рук Богачева, выл:
– Ой, пусти, пусти, пусти!
Богачев со всего размаха швырнул его на пол.
– Еще раз начнете – изуродую!
Из комнаты выскользнули два паренька и старик. Богачев снова ушел к себе и лег на койку. Через несколько минут к нему заглянул уголовник с разбитым лицом и спросил:
– Пилот, у вас нет продажного спирту?
Тогда второй уголовник стал толкать его в спину и кричать:
– Пусти, Коля, я с него потяну права!
– Молчи, капуста! – цыкнул на него тот, что стоял в двери. – Пилот мускулистый, он сделает тебе форшмак детского питания. Пилот, ответьте на вопрос, будьте вежливы!
– Я сейчас продам тебе спирту, – пообещал ему Богачев и сделал вид, что собирается встать с койки.
Уголовник стремительно отпрянул от двери, сбив с ног того, что стоял у него за спиной.
– Хорошо, хорошо, – сказал он, – только не надо сердиться. Мы уважаем мускулистых пилотов.
Когда экипаж вернулся с аэродрома, Богачев рассказал Струмилину про двух уголовников.
– А что вы хотите? Они кичатся своим воровским кодексом чести, а никакого кодекса нет. У них, как у животных, сильный есть сильный, он и хозяин. Мы с ними чересчур цацкаемся, в либерализм играем, добренькими быть хотим.
– И с убийцами тоже, – добавил Володя Пьянков. – Он убьет «со смягчающими обстоятельствами» – ножом, а не топором, или топором, но не шилом, – вот ему пятнадцать и дают вместо расстрела. А убийца – он неисправимый. Око за око, зуб за зуб: у Наума предки неплохо продумали этот вопрос. Я человек добрый, но убийцу персонально расстрелял бы и даже водки потом пить не стал для успокоения.
– Пьянков стал Демосфеном, – сказал Брок, – за два года я не слышал от него больше пяти слов за один присест, а тут – так прямо речь.
3
Струмилина вызвали в отдел перевозок.
– Павел Иванович, – сказали ему там, – огромная просьба к вам.
– Огромная?
Струмилинского шутливого вопроса не поняли и поэтому повторили:
– Да, огромная. Наш дежурный экипаж загрипповал. А рыбаки стонут в Устье: рыба в лед вмерзает. Да и у нас тут свежие помидоры для них пришли – третий день в электростанции храним. У вас сейчас по графику что?
– Сначала отдых, а потом горючее на острова надо забросить.
– Может быть, вы согласились бы заменить наш дежурный экипаж? Сходили бы к рыбакам?
– С удовольствием.
– Правда или издеваетесь?
– Недоверчивые вы какие… – засмеялся Струмилин. – Конечно, сходим к рыбакам!
Он вернулся в общежитие и, остановившись на пороге, сказал:
– Подъем, мальчики, рыбу надо возить!
– Когда же настоящее дело? – сонно спросил Павел. – Наука-то когда? Надоело бочки возить.
– А спать вам не надоело? Вы спите, как бурый медведь в зимнее ненастье. Тому, кто первым поднимется и умоется, обещаю помидор.
– Банку болгарских томатов? – поинтересовался Пьянков из-под одеяла. Он спал около окна, форточка была открыта, потому что было жарко натоплено, и он лежал, укрывшись с головой, чтобы не простудиться.
– Нет. Настоящий, свежий помидор, привезенный из парников.
– Что? – быстро спросил Брок и вскочил с кровати. – Неужели свеженький?! Для меня свежий помидор, что для быка красная тряпка! Я готов на бой, Павел Иванович!
– Считайте помидор съеденным, Нёма.
– Дискриминация, – пробасил Пьянков и сразу поднялся с кровати, – я тоже хочу.
– Жду вас у самолета, – сказал Струмилин. – Возьмите у диспетчера погоду. Живей, ребята, живей!
Когда Струмилин вышел, Богачев спросил:
– Геворк Аркадьевич, что это с командиром?
– Вы о чем?
– Он как-то особенно рад этому рыбному полету.
– А, вы об этом… Командир любит летать к рыбакам и на фактории к охотникам. Там у него много старых знакомых. Его всегда направляют на самые трудные трассы – в океан; здесь-то уж все облазили, тут и новички могут. Ну, вот он и рад к знакомцам слетать. Его все колхозники-поморы знают: от Чукотки до Архангельска.
– Читали книжки о нем?
– Нет. По бочкам они его знают.
– Как?
– По бочкам, – повторил Аветисян, улыбаясь. – В первые годы после войны в поморских колхозах – хоть шаром покати. Тогда бочку в хозяйство заполучить – что золотой слиток найти. Ну, Павел Иванович, глядишь, над одним колхозом в сугроб пустую бочку бросит, потом над другим…
– И колхозники находили?
Аветисян даже присвистнул:
– Колхозники, милый, все найдут. Да еще тогда… Они бы иголку нашли, сбрось мы ее с самолета. Два выговора Струмилин получил, а денег у него вычли – три зарплаты, не меньше… Ну, вы готовы?
– Да.
– Оденьтесь потеплее.
– Я надел джемпер.
– Можете надеть второй, не помешает – на реке сильный ветер.
Самолет шел низко, повторяя в воздухе причудливый путь реки.
– Я чувствую себя лыжником-слаломистом, – сказал Павел Струмилину.
Тот кивнул головой и спросил:
– А подводным пловцом-аквалангистом вы себя не чувствуете?
Павел засмеялся и отрицательно покачал головой.
Аветисян грыз кончик карандаша и смотрел в иллюминатор. Пойма реки, над которой сейчас шел самолет, была удивительно похожа очертаниями на то место, где он встретил войну. Его перебросили из Читы на западную границу двадцать первого июня сорок первого года. Он приехал ночью на аэродром, расположенный на берегу реки, и пошел купаться с летчиками. Ночь кончалась, занимался рассвет. Вода была теплая и мягкая. По берегу стояла осока. Выкупавшись, Аветисян нарвал охапку осоки и стал натирать ею белье, только что выстиранное им в реке. От осоки, от свежей ее зелени остается хороший запах – так делала его бабушка в Ереване, Аветисян помнил это. А потом с аэродрома прибежал старшина и закричал страшным голосом:
– Война!
Аэродром был перекопан: его переоборудовали. Командир полка пытался возражать: люди, стоявшие на границе, чувствовали, что на той стороне Буга происходит по ночам что-то неладное. Из Москвы командир полка получил нагоняй. Его обвинили в паникерстве и политической слепоте. Аэродром начали переоборудовать. Все самолеты полка были сожжены гитлеровцами в первый день войны. Аветисян отступал с пограничниками. 29 июля его ранило под Смоленском. В госпитале его раздели. Заплаканная сестра, стаскивая с него изорванную, окровавленную рубаху, увидала ссохшуюся осоку.
– Кто это сек вас? – улыбнулась сестра сквозь слезы.
Аветисян ни разу не раздевался тридцать три дня, отступая. Так и пронес он сотни страшных километров у себя за спиной вещественную память мира – зеленую молодую осоку, которая дает такой хороший запах свежевыстиранному белью…
– Здесь по берегам много белых куропаток, – сказал Струмилин, – жаль, что я не взял из дому мелкашку.
– А из пистолета? – спросил Павел.
– Вы не охотник, Паша. Охота – очень гуманный вид спорта, ему противен дух убийства. Бить куропатку из пистолета – ей-богу, это зверство.
– Софистика, Павел Иванович, – жестко возразил Павел. – В конце концов результат один – куропатку бьют. А из чего – из пистолета ли, из ружья – разница не велика, да и куропатку это не интересует. А самоуспокоение – оно вроде бы от христианства, а?
Струмилин поначалу терялся, когда слушал такие резкие возражения Павла. Сначала ему показалось, что это от бестактности, но потом он понял, что это идет от непримиримой веры парня в то, что он утверждает. Отсюда резкость и кажущаяся грубость.
«Это хорошо, – подумал Струмилин, – мы сейчас забыли нашу комсомольскую заповедь: “Все в глаза, как бы горько это ни было”. Дипломатия в нас появилась, мягкими хотим быть. А этот рубит, молодец, парень!»
Сзади чертыхнулся Брок.
– Что, Нёма? – спросил Струмилин.
– Я сейчас слушал наших океанологов.
– Это каких?
– Станцию «Наука-9».
Струмилин нахмурился, вспоминая координаты океанологов, высаженных на лед океана.
– Они неподалеку от станции Северного полюса?
– Да. У них очень плохо.
– Что?
– Лед прошило трещиной, теперь там садиться – кружева плести.
– Будут уходить?
– Нет. Передают: ерунда, работа идет хорошо, будут сидеть, аврала пока нет, хотя ледовая обстановка вшивая.
– Какая?
– Отвратительная.
– Это точнее. Как руководство экспедицией?
– К ним вылетает Годенко. Да они же не уйдут, если хорошо работается. Вы же знаете их: одержимые, наука – и все тут.
– Передайте им от меня «88».
– Хорошо.
– Что? – удивился Павел.
– Вы плохо занимались радиоделом, Паша. «88» у коротковолновиков значит: «люблю и целую».
…Та часть рыбы, которую не успели уложить в ящики, вмерзла в синий пузырчатый лед.
– Любопытно, – сказал Павел, опустившись на корточки, – вот в тех пузырях во льду есть жизнь или нет? В общем-то если там воздух, то, значит, должна быть.
– Пашенька, не мучайте себя вопросами такого глубокого философского смысла, – посоветовал Аветисян. – У нас в Ереване живет академик Амбарцумян, он занимается этими вопросами лучше, чем вы.
– Вас понял, – отозвался Павел задумчиво, – перехожу на прием. Академику Амбарцумяну от меня передайте «88».
Аветисян засмеялся и заверил Богачева официально:
– Почту за честь.
Павел не удержался и спросил:
– Геворк Аркадьевич, а почему у вас в Закавказье говорят не «честь», а «чэсть»?
Аветисян ответил сразу:
– Так, дорогой, звучит возвышеннее. Мы, армяне, романтичной души люди, в горах живем, рядом с орлами. Есть еще вопросы?
– Вопросов нет.
– Тогда пошли, поможем загружать рыбу в машину.
Рыбакам трудно загружать рыбу, потому что их одежда покрыта ломкой корочкой льда.
Старый струмилинский знакомый дядя Федя, ответственный в артели за сдачу рыбы, суетясь, говорил пилотам:
– Что вы, ребятки, не тревожьтеся, мы сами зараз управимся.
– Да погрейтесь идите, – предложил Пьянков, – а нам мышцами потрясти, поразмяться – одна радость. Вы ж продрогли совсем.
– Так нешто подо льдом холодно? – удивился дядя Федя и постучал красными квадратными пальцами по ватнику, схваченному льдом. – От холода, обратно же, холодом защищаемся!
– Пошли, пошли, Федя, перекурим, а там подсоединимся к ребятам, пошли – погреешься, ты ж нас ждал два часа на ветру.
– Ветер не огонь, его стерпеть можно.
– Герой, что говорить! Ну, пошли, ребят посмотреть хочу, не виделись бог знает сколько времени.
– Так, Пал Иваныч, ты ж сушей пренебрегаешь, все по воздусям, – отозвался дядя Федя, – над океанами паришь…
Они вошли в маленькое зимовье, срубленное прямо на берегу. Здесь жила артель. Шесть рыбаков сидели вокруг стола. От ватников валил пар, потому что здесь было натоплено сверх меры. Рыбаки сидели, тесно прижавшись друг к другу, и молча ели помидоры, привезенные Струмилиным.
– Поклон поморам! – сказал Струмилин.
У рыбаков были горячие, влажные руки, мозолистые и сильные. Струмилин поздоровался с каждым по очереди, а потом сел рядом с артельным, в центре стола.
– Спирту, папаша, – попросил артельный.
Дядя Федя пошел к нарам и принес оттуда две бутылки спирту.
– Разлейте, папаша, за гостей поднимем.
Дядя Федя разлил спирт ровно и быстро. Струмилин накрыл свой стакан ладонью.
– Что?
– Мне не лейте, нельзя.
– Неуважение будет, – сказал артельный.
– Упадем мы из-за спирта.
– Падать не надо: об лед больно, и обратно, рыбу некому возить будет. Тогда ваше здоровье, Павел Иванович, и всех доблестных летчиков.
– Что это ты высоко заговорил так, Леня?
Дядя Федя хихикнул:
– Он у нас агитатором работает, по линии общества. Со мной тоже так разговаривать стал, хоть шляпу для солидности надевай.
Рыбаки посмеялись, выпили и закусили помидорами.
Артельный Леня выпил последним и сказал:
– Вы, папаша, человек старый и многого в нашей жизни не понимаете, а перед гостями на меня позор наводить – нехорошо. Как я с вами говорил раньше, так и теперь говорю…
– Да я шучу, чудной, – сказал дядя Федя, – нешто гость не понимает?
Потом все подошли к самолету и стали ломиками выбивать рыбу, вмерзшую в лед. Струмилин тоже взял ломик и начал работать вместе со всеми. Он глубоко вдыхал холодный воздух и весело щурился, потому что в ледяных брызгах, искрой вылетавших из-под ломиков, звонко всплескивалось сине-красное солнце и слепило глаза.
Струмилин работал радостно и споро. Он сделался мокрым, плечи болели хорошей усталостью, а дыхание очистилось от папиросного перекура и стало чистым и глубоким.
«Надо обязательно физически работать, – думал он, – без физической работы человек гибнет лет на тридцать раньше, чем положено. Обязательно начну что-нибудь копать…»
Вдруг Струмилин, слабо охнув, опустил руки с ломиком и замер.
– Что, ушиблись? – спросил Аветисян.
– Нет, – тихо ответил Струмилин и почувствовал, что сильно бледнеет, – немного совсем. Чуть-чуть…
Он не ударился. Просто в сердце вошла боль, острая и неожиданная. Так у него было три раза. Он пугался этой неожиданной и страшной боли, но она довольно быстро проходила, а потом оставалась слабость, как после бессонницы.
«Черт возьми, неужели же это настоящее что-нибудь? – думал Струмилин, опускаясь на лед. – Неужели это настоящая болезнь сердца?» Но прошло несколько минут, и Струмилину показалось, что боль прошла совсем. Он положил под язык таблетку валидола и улыбнулся.
«Нет, ерунда, – решил он, – просто, наверное, устал. Поедем к морю с Жекой, и все пройдет. Это уж точно…»
Никто, кроме Аветисяна, ничего не заметил, потому что и Пьянкову, и Броку, и Богачеву не было еще тридцати. И хотя дяде Феде было за семьдесят, он не знал, в какой стороне груди бьется сердце, потому что всю свою жизнь он занимался только одним: ловил рыбу.
4
– Кто хочет пойти в баню? – спросил Аветисян.
– А где? – удивился Пьянков. – День-то сегодня не банный.
– Ориентировка на местности, милый…
– Где баню сориентировал?
– В подвале электростанции. Вполне приличное помещение.
– Крыс нет?
– Есть, но они сытые и на такого тощего, как ты, не польстятся.
– Тогда я за баню, – сказал Брок и стал доставать из портфеля чистое белье и мыло.
В подвале электростанции было темно и холодно. Летчики шли друг за другом, натыкаясь на какие-то трубы, куски металла и ободья от бочек. Они сдержанно чертыхались. Аветисян пробирался первым и все время приговаривал:
– Ничего, ничего, скоро мы выйдем на цель.
«На цель» они вышли не скоро: Аветисян забыл короткий путь, фонарика они с собой не взяли, светить могли только спичками и поэтому чем дольше шли, тем яростней чертыхались.
– Сейчас, сейчас, – успокаивал Аветисян, – последний отрезок остался.
Когда они пришли в помещение, которое так расхваливал Аветисян, Струмилин присвистнул и сказал:
– Нет, дорогие мои, я в этом спектакле не участвую.
Помещение было темное и грязное. Горячую воду надо было брать из котлов, которые все время глухо урчали и, казалось, должны были с минуты на минуту взорваться. Холодная вода, которой следовало разбавлять кипяток, почему-то из бака не шла.
– Это ничего, – сказал Аветисян, – небольшой перерыв, а потом пойдет. В общем, кому не нравится, может отмежеваться. Лично я буду мыться, я уже мылся тут три раза, и очень мне нравилось.
– Я повременю, – сказал Володя и ушел вместе с командиром.
Богачев, Аветисян и Брок остались. Они разделись и только тогда почувствовали, как здесь холодно. Понизу дул сквозняк, и Богачев, как гусь, поджимал пальцы и переваливался с ноги на ногу. Аветисян открыл кран и набрал кипятку в три больших таза. Потом он попробовал долить их холодной водой, но холодной воды до сих пор не было. Где-то рядом работал мотор на плохом топливе, и поэтому через пять минут три товарища стали грязно-серого цвета.
– Скоро будет холодная вода? – сухо осведомился Брок.
– Сейчас, сейчас, – пообещал Аветисян и куда-то ушел.
– Веселая у нас получается баня, – сказал Брок и стал бить себя по спине, чтобы согреться.
Они скакали на месте и били себя по спине и по плечам, чтобы согреться, но им становилось все холоднее, а в довершение ко всему вошел неизвестный дядька в ватнике и закричал:
– Разрешение от Дим Димыча есть?
– Нету.
– А ну, вон отсюда!
– Да что ты, дядя? – взмолился Богачев. – Мы же как негры теперь, дай хоть отмыться.
– Разрешения у вас нету – не могу!
– Потом принесем.
– А почем я знаю, кто вы такие? Электростанция – объект, а не шутки, а вы тут голые бегаете. Одевайтесь, не то за милицией пойду.
В этот критический момент вошел Аветисян.
– Ой, миленький, – застонал он, – а я тебя по всему подвалу ищу, давай холодной воды скорее!
– А разрешение от Дим Димыча есть?
– Есть, есть, – закивал головой Аветисян и вытащил из портфеля, в котором держал белье, два рубля.
Человек в ватнике спрятал деньги и отошел к стене. Там он нажал какую-то кнопку, и сразу же пошла холодная вода.
– Сейчас веников принесу, – сказал он и вышел.
Мылись в молчании, проклиная Аветисяна. Было по-прежнему холодно, а вода отдавала мазутом.
Вернувшись к себе, они сказали Володе Пьянкову:
– Слушай, это не баня, а сказка. Иди, пока не поздно, там и веники есть.
– Давайте, давайте, – сказал Пьянков, – осторожнее на поворотах, здесь пришибленных в детстве нет.
5
Уже около самолета экипаж Струмилина догнал запыхавшийся диспетчер. Он отозвал в сторону Володю и попросил его:
– Отдай на Диксоне Галочке с радиостанции, – и передал две рыбины.
– Нельмы?
– Да.
– На строганинку?
– Да.
– Не возьму.
– Почему?
– Испортятся. Нам еще до Диксона ходить и ходить.
– Да нет же. Сейчас вам приказ передадут: взять на Тикси науку и переходить в Диксон.
– Командир! – крикнул Володя радостно. – На науку нас переводят!
Богачев запрыгал на одной ноге, как мальчишка. Диспетчер засмеялся. Богачев покраснел и стал делать вид, что прыгал он не от радости, а потому, что в унту попал камешек.
Струмилин и Аветисян переглянулись, и Брок увидел в глазах командира ту нежность, которую он уже не раз замечал, когда командир смотрел на Павла.
– Какие будут ЦУ? – спросил Володя диспетчера, забрасывая рыбины в самолет.
– Главное ЦУ – не расплавьте мой подарок, рыбка хорошо заморожена, упаси бог, потечет!
– Я положу в хвост.
– Спасибо.
– Так, значит, ЦУ не будет?
– Он сейчас нам ОВЦУ даст, – предположил Брок, – все диспетчеры очень любят давать не просто ЦУ, но обязательно ОВЦУ.
Богачев, слушая этот разговор, спросил у Аветисяна:
– Геворк Аркадьевич, они сейчас по-датски изъясняются или как?
– По-советски, – ответил Аветисян. – ЦУ – значит «ценные указания», а ОВЦУ – «особой важности ценные указания». В толковом словаре у Даля таких слов нет, но они экономны и выразительны, в этом спору нет. Они – памятники эпохи.
– Есть спор, – возразил Богачев, – так испортили язык! Я вообще скоро из протеста на славянский перейду. Чтобы поломать эти памятники эпохи.
– Что же тогда делать нам? – поинтересовался Аветисян. – И вообще не националист ли вы, Паша?
– Вы заведете себе переводчика, – сказал Богачев, – или я выучу армянский.
– Последнее меня устраивает, а то с переводчиком себя чувствуешь иностранным туристом.
Когда поднялись в воздух и легли курсом на Тикси, Брок принял радиограмму с предписанием зайти в Тикси и забрать экспедицию.
– Правду говорил рыбак-то, – сказал Богачев, – теперь полетаем по-настоящему.
Самолет шел над тундрой. Солнце катилось по снегу огромным белым диском. Заструги ломались скифскими луками. Снег сливался на горизонте с таким же синим небом, и от этого казалось, что далеко впереди океан.
Брок передал Струмилину радиограмму из Чокурдаха. На бланке он записал направление и силу ветра, температуру воздуха и прогноз. Струмилин бегло просмотрел радиограмму и передал ее Богачеву.
– Сегодня будете сажать машину, – сказал Струмилин.
– Есть.
– Ветер только сильный.
– Ерунда, – сказал Пашка, – я ее усажу, как ребенка.
Струмилин вздрогнул и быстро взглянул на своего второго пилота. Павел поправлял палочку автопилота, выправляя курс. Курносый нос, обгоревший на холодном солнце, шелушился.
«Он совсем не похож на отца, – подумал Струмилин, – а сейчас сказал точную фразу Леваковского. Откуда в нем это? Ведь он не мог знать отца: тот погиб, когда ему было три года…»
– Откуда вы знаете эти слова?
– Какие?
– Ну вот эти – «усажу, как ребенка».
– А… Сыромятников мне говорил, что это любимые слова отца.
– Верно.
– Мне очень нравятся эти слова.
– Мне тоже. Слушайте, Паша, извините за нескромный вопрос, а почему у вас другая фамилия?
– Это мать. Она отдала меня в детдом, когда все случилось. Потом вышла замуж и уехала во Владивосток. А когда меня направили в ремесленное училище, она сказала, что мои метрики пропали и что фамилия моя Богачев. Это фамилия ее отца, а он жил в Минске, а там все записи в загсе пропали в войну, и никто не мог проверить. А уж после того как моего отца реабилитировали и ей вернули его Золотую Звезду, она мне все написала.
– А почему вы сейчас не возьмете свою настоящую фамилию?
Богачев долго молчал, а потом ответил:
– Это для меня – как в партию вступить. Думаю, еще рано. Я – Богачев, а Леваковским мне надо стать.
В Чокурдахе дул сильный боковой ветер.
– Ну как? – спросил Струмилин. – Будете сажать?
– Если разрешите – конечно!
– Разрешаю.
Володя Пьянков занял свое место: на маленьком откидном стульчике между Струмилиным и Богачевым. Он привычно глянул на показатели приборов и сложил руки на коленях, готовый выполнить любой приказ пилота точно и незамедлительно.
Богачев мастерски и легко выполнил «коробочку», а потом повел самолет на снижение. Струмилин не смотрел в сторону Богачева. Он смотрел прямо перед собой и видел ровное снежное поле метрах в ста слева от самолета.
«Слишком большое упреждение берет парень, – думал он, доставая из кармана папиросы, – упадем в торосы, ноги поломаем…»
– Шасси! – скомандовал Богачев.
На щитке загорелся зеленый свет: шасси выпущены.
– Семьдесят метров, – начал отсчитывать высоту Пьянков, – семьдесят метров, шестьдесят метров, пятьдесят метров, сорок метров…
Самолет чуть подкинуло и понесло вперед стремительнее, чем секунду тому назад.
Аветисян и Брок привстали со своих мест и напряженно смотрели прямо перед собой. Они смотрели на снежное поле, которое было слева и которое очень медленно приближалось. Так, во всяком случае, им казалось. Земля быстро уходит при взлете и очень медленно приближается во время посадки.
– Тридцать метров, – продолжая отсчитывать, Пьянков посмотрел на Струмилина, – двадцать метров…
«Неужели вытянем? – думал Струмилин, наблюдая за тем, как самолет неуклонно сносило налево, – тогда он просто гений, этот Пашка…»
Самолет завис в воздухе, и на какую-то долю секунды всем показалось, что движение и время остановились, подчиненные спокойному приказу двадцатипятилетнего парня в кожаной куртке.
Струмилин не понял, дотянул все же Павел до снежного поля или сейчас машина перекувырнется, ударившись шасси в торосы.
«Сейчас, – думал Струмилин, – вот сейчас… Ну, дотяни, голубушка, дотяни же!»
– Все, – спокойно сказал Богачев, – сели, как в аптеке.
Удара шасси о снег все еще не было. Но как только он сказал, все в кабине ощутили спокойный, несильный толчок, и машина покатилась по снежному полю.
Струмилин обернулся и посмотрел на Аветисяна и Брока. Те стояли у него за спиной. Аветисян развел руками, что могло означать одновременно и крайнюю степень восхищения и, наоборот, высшую форму раздраженности.
«Что мне ему сказать? – напряженно думал Струмилин. – Он блестяще посадил машину, но он посадил ее очень рискованно и слишком красиво. Это для авиационного парада, а не для Арктики…»
Богачев обернулся к Пьянкову и спросил:
– Володя, у тебя нет спички? У меня в зуб что-то попало.
Пьянков протянул ему пустой коробок. Богачев отломил кусок фанерки и стал чистить зуб. Струмилин испытующе смотрел на него, а потом не выдержал и засмеялся. И весь экипаж тоже засмеялся. Богачев удивленно посмотрел на Струмилина, на Володю, потом быстро оглянулся на Аветисяна и Брока и спросил: