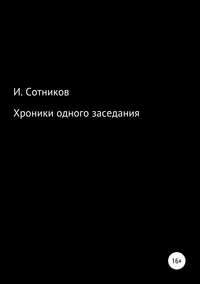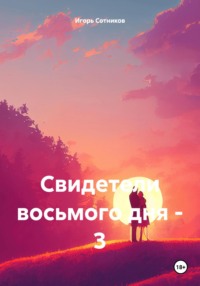полная версия
полная версияПалиндром
– Хотя, возможно, я ошибся насчёт нашего юнги. И он не так уж и поспешен, и не настолько и юн в своих незамедлительных решениях. – Заговорил капитан Мирбус. И, пожалуй, эти его начальные слова, даже порадовали Маккейн, – Мирбус учёл внутренние замечания Маккейна по поводу своего неподходящего для юнги возраста. Но вот только не до конца. И тут не обошлось без того, чтобы эти слова Мирбуса по-своему не напрягли Маккейна. Для чего собственно, уже изначально существовали свои побудительные причины – Маккейн с недоверием относился к этому Мирбусу, от которого ничего хорошего ожидать не стоит, и он этого нехорошего и ждал от него. И как тут же выяснилось, то Маккейн не зря сомневался и подозревал Мирбуса в его предвзятости против него. И Мирбус сейчас же подтвердил всё то, что о нём с самого начала знакомства подозревал Маккейн.
– Господа. – Не слишком громко и не тихо, а в самый раз, чтобы это обращение было в своей слышимости доступно только господам и никому другому, особенно дамам, сказал капитан Мирбус. И как только всё внимание господ за столом было завоёвано этим обращением, Мирбус, глядя чуть в сторону от Маккейна, выдаёт вслух такое непостижимое для Маккейна словосочетание, что его прямо-таки бросает в пот. – Прошу обратить ваше внимание на ту, кто находится на траверзе правого борта нашего юнги. – Говорит Мирбус. Отчего Маккейн, в один мгновение взмокнув и, прилипнув спиной к своей рубашке, ещё крепче затвердевает в своей неповоротливости, совершенно не понимая, как себя вести в ответ на этот выпад в свой адрес со стороны Мирбуса.
– Чёрт возьми, да как это всё понимать?! – побагровев, возмутился про себя Маккейн на такие, ничего себе позволения в свой адрес со стороны этого подлейшего из капитанов. – Да как он смеет, делать в мой адрес такие замечания, даже если они имеют под собой все основания быть! Ну, нетрезв я. Ну и что. А его какое собственно дело. И что ещё за однобокость такая? – Последний возникший вопрос побудил Маккейна обратить своё внимание на свой правый борт… пока что только пиджака – вон он что делается, Маккейн уже начинает мыслить по-морскому.
Но у Маккейна всегда были широкие взгляды на окружающее, и тут уж ничего не поделаешь, и он не смог ограничиться одним бортом своего пиджака и посмотрел несколько дальше, вокруг себя. Где его взгляд и натолкнулся на… Как бы лучше сказать или выразиться, чтобы не быть обвинённым в том, в чём всех так любят обвинять во всех смыслах недотроги, не быть пресным и не живым, а без обид суметь выразить свои природные предпочтения. В общем, Маккейн натолкнулся на ту самую заднюю часть субъектности, обходящей его по правому борту молодой особы, которая вызывает столько волнения и споров у господ и просто граждан, когда она, эта часть субъектности, оказывается к ним лицом, а её хозяйка к ним своим не передом.
Ну а так как Маккейн оказался лицом к лицу …с той частью жизни, которая куда как чаще чем мы думаем, к нам поворачивается этим своим лицом, – а некоторые всем известные лица, только и известны этим своим лицом, – да и при этом это всё произошло в тот момент, когда хозяйка этой своей субъектности или второго лица, уже завершала свой манёвр, и Маккейн можно сказать, оказался на острие розжига своего любопытства – его взгляд только коснулся краёв тайн, которые несёт в себе эта, как бы выразился капитан Мирбус, кормовая данность её хозяйки – то он уже побуждаемый своими рефлексами и больше ничем, потянулся вслед за ускользающей от него картинкой проходящей мимо него молодой особы.
И что удивительно, так это то, что Маккейн так и не сумел догнать своим взглядом эту молодую особу, даже несмотря на то, что угол поворота шеи Маккейна, был куда меньше, чем то окружное расстояние, которое преодолевала эта молодая особа. Правда то, что эта особа оказалась так неуловима для глаз Маккейна, то в этом нет большой её заслуги, и, пожалуй, имей Маккейн больше пространства для манёвра, то он неминуемо настиг бы её своим взглядом.
А всё дело в том, что к его полной неожиданности, он, как-то позабыв о присутствии за своей спиной своих недругов и даже врагов из числа пассажиров и членов экипажа корабля, вдруг натыкается на их, даже не на осуждающие, а на насмешливые взгляды. Что и ставит своеобразную точку в его движениях дальше – он, застыв в одном, крайне неудобном для себя в полуоборотном положении, не моргая, смотрит на то, как все смотрят на него, и так паскудно ухмыляются, что ему до нового приступа тошноты становится плохо. Ну и среди всей этой массы невыносимых для Маккейна лиц, само собой выделяется капитан Мирбус, который и молчать не будет, а обязательно, что-нибудь эдакое, нелицеприятное в его адрес сейчас возьмёт и отпустит.
– А это положение принято называть «траверз задней точки». Он проходит по корме. – И только капитан Мирбус отпустил в адрес Маккейна эту непристойность (а Маккейн не видел других оснований иначе думать), как Маккейн уже не может себя сдержать и, в ярости закричав в ответ: «Я трезв! Трезв! Понятно!», – к полнейшей для всех неожиданности, вдруг подворачивается в ногах и к множественному потрясению – палубы, людей в ресторане и главное, себя – валится с ног.
Что для него становится шоком – теперь чтобы он не делал и не говорил, никто не сочтёт разумным принять его прозвучавшие уверения в своей трезвости за чистую монету, а за вывалянную в пыли и грязи, запросто примут. И Маккейн, всё также действуя на рефлексах, к удивлению многих, проявляет завидную прыткость в своём подъёме на ноги, с которой он и уносится прочь отсюда, в свою каюту, чтобы там окончательно пасть в своих отражённых в зеркало глазах, и заодно жертвой морской качки и сопровождающей её морской болезни.
Глава 6
Вторая склянка и первый стол
Запись вторая. Выражающая основной посыл и эмоции Маккейна, где всплески помутнения разума и рассудка, со своими прояснениями, которые преследовали его столько дней и ночей, что без тошноты о них и не вспомнишь, были обычной его реальностью. И как результат, его нестерпимое желание найти выход из этого положения, то есть из каюты и при этом не только в гальюн (?).
«Я понял значение выражения: «Мыслю и делаю дальше, чем вижу»… И теперь я не завидую тем, кто не столь дальновиден как я…………
Туман, как сдаётся мне, – а сдаётся мне с каждым разом всё хуже и хуже, и всё больше не в масть, – взял нас в свои мутные тиски и, окутав нас со всех сторон, уже лезет нам в голову и мысли, затуманивая наш рассудок и разум. Но наш туман в голове, несмотря на то, что он стоит везде и вокруг, не идёт ни в какое сравнение с тем туманом, который заместил всё здравомыслие и стоит в голове капитана. И при этом он не просто стоит, а он им напускается.
И пока в капитанской рубке будет находиться этот пресловутый капитан Мирбус, нас не ждёт ничего хорошего, кроме туманных перспектив. И я, от одного упоминания чьего имени, бросало в холодную дрожь всех без исключения тиранов и диктаторов, обязательно найду способ противодействовать его тирании, и положу всему этому единоначалию конец. Но на этот раз я буду действовать умнее и не полезу на рожон».
Маккейн, находящийся в непонятном для себя положении на полу и в себе или не в себе, что и не разберёшь, и в ещё более малопонятном для себя и для всех пассажиров корабля статусе, – а то, что ему до посадки на корабль обещали, вызывает теперь одну только усмешку, — сформулировав в своей голове более-менее отчётливую мысль, которая была своевременно, по мере возникновения вписана в его вахтовый журнал на нейтронных носителях, помещённых в одну из ячеек его памяти, что отвечает всем требованиям безопасности, решил попытаться в реальности осуществить задуманное – хотя бы для начала оторвать свою тяжёлую голову от пола.
Что, как оказывается, не так просто сделать, когда ты привык лежать и в твоей голове столько тяжёлых мыслей, которые не просто утяжеляют твою жизнь, а буквально притягивают тебя к Земле, или в данном случае к полу каюты. И, если ты непременно хочешь оторвать свою голову от Земли или от ковра, используемого вместо подушки, то тут выход только один — необходимо немедленно избавить свою голову от всех этих тяжёлых и не дающих подняться мыслей. К чему и приступил Маккейн, принявшись избавляться от этих своих тяжёлых мыслей. Которые как вдруг выяснилось и услышалось, были не только тяжеловесны, а они содержали в себе столько нецензурной скверности и пошлости, что не мудрено было понять, почему Маккейна так плющило и прибило к полу.
— ЁмаЁ…..Охренеть не встать! — Маккейн так невероятно многоуровнево, до чего же непристойно выразился (чего даже сигналом не запикать, и пришлось уточнять – точки ставить), что он сам поразился тому, на что он способен в мгновения своего умопомрачения. — За это, наверное, меня девки и любят. — В улыбке прояснился лицом, обрадованный Маккейн. — Как брякну какую-нибудь непристойность, то ни одна, даже самая благочестивая, настоянная настоятельницей на монастырских речах послушница, не может устоять перед такой реалией жизни и начинает прислушиваться ко всему мною сказанному. А как прислушается, то даже не просит, а требует от меня показательных объяснений, что всё это значит. И при этом не только на словах, а ей необходимо, убедительнейшим образом продемонстрировать доказательства того, что всё мною сказанное, существует на самом деле. А что я могу сказать и поделать в ответ, как единственное, сказать: «Пойдём в келью, покажу», – а затем поделать.
И Маккейн за всеми этими своими рассуждениями, а по сути, выбросами из себя всего лишнего, ненужного, и не заметил, как оказался в полушаге от своего подъёма на ноги — он сумел добраться до кровати и присесть на неё. Что, в свою очередь, вдохновило его на дальнейшие мысли, которые на этот раз касались более приближенных к нему вещей. Он решил порассуждать о морской болезни, которая так неожиданно свалила его с ног. К чему он, не то чтобы не был готов, а он совершенно не ожидал от себя такой аномальной слабости и отсутствия иммунитета к такого рода болезни.
А Маккейн, как и многие из тех людей, кто принимал себя за решительного человека, в значении того, что он всё для себя и для многих решает, считал, что морская болезнь, это уж точно не для него, и уж кого-кого, а его она точно никогда не коснётся. – Морская болезнь, это уж точно не про меня! – как и всякий решительный и знающий себе цену человек, говорил про себя, не про себя, а вслух и буквально про себя Маккейн. Но до чего же всех этих, знающих себе цену решительных людей удивляет, когда они, вывернутые все изнутри наизнанку, ставятся на колени перед унитазом или тошнотными позывами перекидываются туловищем через борт, оказываются в положении поставленных перед фактом своей настоящей действительности людей – они всего лишь самые обычные люди, которым свойственно всё тоже самое, что и самому среднестатистическому человеку.
А всё это, для всех этих, считающих себя за не таких как все людей, нестерпимо и больно осознавать. И само собой, этот факт действительности ими воспринимается только в штыки и никак иначе. А иначе, как они смогут жить, ведь они так обычно жить не умеют и не приспособлены к такому тяжкому для себя труду. И они скорей умрут, чем будут жить обычной жизнью простых людей. А вот за кого-то пострадать и побороться за их права, то это они могут.
Так что нет ничего столь уж сверхъестественного и удивительного в том, что Маккейн был крайне удивлён и озадачен таким положением вещей и творящимся безобразием со своим организмом, который так неожиданно и непредсказуемо для него себя повёл – воспротивился ему и определённо подвёл его под… А вот под что, то это об этом Маккейну ничего не было известно, как и то, сколько он в таком изолированном от всех положении провёл времени здесь, в каюте, наедине со своими тошнотворными мыслями и их выходками.
– И ни одна падла обо мне не вспомнила, и не зашла ко мне поинтересоваться, как у меня здоровье и вообще, как у меня дела. – Маккейну, перед лицом которого всплыли лица тех, кто просто обязан был проведать его, – да тот же генерал Томпсон, который два раза всплыл перед его глазами (теперь становится понятным, к кому относилась эта выразительная несдержанность со стороны Маккейна), – и у него от такого нестерпимого отношения к себе, даже закололо в области сердца.
Но Маккейн крепкий орешек и он умеет мобилизоваться в трудные для себя минуты. И ему только дай смочить лицо под краном и он вновь будет готов освежать этот мир своими мыслями и новообращениями. Тем более период акклиматизации к местным условиям вроде как подошёл к концу. И его хоть ещё немного и покачивало, но судя по тому, что он почувствовал в себе голод во всех степенях своего значения, то он теперь, после того как он принял душ, был полностью готов выйти в люди.
– Остаётся узнать одно, – переодевшись во всё чистое и новое, глядя на себя в зеркало и поправляя на шее галстук, обратился к самому себе Маккейн, – узнать, сколько времени я здесь пролежал в одиночестве. – Здесь Маккейну в зеркало опять привиделся генерал Томпсон, отчего Маккейн преобразился в гневного господина Маккейна, который при первой же возможности, не даст спуску этому, дискредитировавшему в его глазах генералу, бросившему его на произвол самого себя.
После того как только Маккейн погрозил Томпсону в зеркало кулаком, он перешёл из туалетной комнаты в отсек своей каюты, приспособленной под небольшой рабочий кабинет. Здесь он вытащил из встроенного в стену шкафа средних размеров дипломат и, поставив его на рабочий стол, принялся ощупывать свои карманы на предмет присутствия в них шифрованных ключей от этого носителя стратегических секретов.
Но судя по побледнению лица Маккейна, его поиски оказались безрезультатными, и он, оторопев от смутных и страшных предчувствий, вдруг в один момент рушится на приставленный к столу стул (он когда работал с секретными документами, не имел привычки садиться – кто знает, что может случится в следующий момент, и не придётся ли во всю прыть бежать с этими секретами). Но Маккейн в таком разориентированном положении находится совсем недолго и вид лежащего перед ним на столе дипломата, вкупе со стоящим на столе будильником, приводит его в чувства. И он, вдруг осознав, что только что переоделся в другой костюм, подрывается с места и несётся в туалетную комнату. Где в снятой одежде и находит всё, что ему нужно, чтобы открыть этот полный секретов дипломат.
Ну а как только этот полный секретов дипломат открыт, то Маккейн так его приоткрыто открывает, что не имеется никакой возможности заглянуть в него внутрь – Маккейн в деле собственных секретов сверхосторожный человек, и даже если в комнате или в данном случае, в каюте, никого кроме него нет, он всё равно всем собой закроет дипломат, и через него в дипломат не заглянешь. – У стен есть не только уши. Поверьте мне, я знаю, что говорю. – Многозначительно покачивал головой Маккейн, ведя через микрокамеру скрытое наблюдение за каким-нибудь не столь осторожным человеком, как он.
Правда иногда Маккейн давал волю своим эмоциям, из-за чего, если за ним велась скрытная слежка, можно было сделать некоторые догадки насчёт его хода мыслей и соображений. И тут присутствует ещё одна правда – Маккейн к большому сожалению его врагов, был слишком эмоционален и оттого его было сложно прочитать и вычислить то, что он замыслил. А всё потому, что он на всё, вне зависимости от знака события, реагировал одинаково – смущающим слух крепким словцом и резко импульсивно.
– Вот чёрт! – в один из моментов, Маккейн вдруг громко и резко чертыхнулся, и тут же более чем жёстко захлопнул крышку дипломата. И тут, если бы за Маккейном велась скрытая слежка, что вполне возможно, а он никогда не станет исключать такой вариант к нему отношений со стороны окружающего мира (Маккейн на этот счёт более чем подозрителен и мнителен – он можно сказать, в этом деле ипохондрик), люди ведущие за ним наблюдение могли бы предположить, что Маккейн чем-то прищемил свой палец, раз он так чертовски порывист по отношению ко всему окружающему. Что может быть и так, а может и вовсе не так, и, пожалуй, никто бы никогда так и не узнал, из-за чего так расстроился Маккейн, если бы он на этот раз не сделал словесную утечку (все другие виды утечек, которыми он так вокруг себя радовал все эти аномальные дни, уже порядком надоели).
– Никакой связи! – с перекошенным лицом, через прикушенный зубами торчащий палец во рту, пронзительно выразился Маккейн. После чего он опять садится на стул и начинает судорожно соображать над новыми, только открывшимися обстоятельствами. – Это, или диверсия, или что-то в технической службе недоучли. – Еле слышно пробубнив, Маккейн вновь тянется руками к дипломату, приоткрывает его крышку, смотрит в его глубину на что-то совсем неведомое и невидное со стороны, и тем более не поймёшь, что это такое, когда не знаешь, что там такое находится.
– Что-то мне подсказывает, что во всём этом капитан замешан. – Потемнев в ярости лицом, помыслил Маккейн. – У него, наверняка, есть все технические возможности, для того чтобы глушить любые внешние сигналы. Вот он и глушит. И теперь мы окончательно находимся под его информационным колпаком. И он будет дозировано, в нужных ему количествах и качестве, подкармливать нас информацией из внешнего мира. Пока … – Маккейн от переполнившей его злобы не смог закончить эту свою мысль. Но это было необязательно делать, она итак выразительно читалась по его безумному лицу.
Но вот Маккейн успокаивается, после чего закрывает секретный дипломат на шифрованный ключ, убирает дипломат в другое, более надёжное место – на свою кровать, под матрас – и, окинув взглядом свою каюту, направляется на выход. Где его ждёт первый, и не пойми с каким знаком сюрприз – с внешней стороны, на ручке двери, висит табличка «Не беспокоить». Что вызывает нескрываемое на лице Маккейна затруднение в понимании того, каким образом появилась эта табличка на его двери. Как он помнил, то он не помнил, чтобы он вешал такую табличку себе на дверь (хотя он с собой на корабль брал точно такую же табличку).
А так как здесь, на корабле, вряд ли пользовались такими табличками – здесь всё же не гостиница – то получается, что только он мог повесить эту табличку себе на дверь. И тогда вполне объяснимо то, что его никто не беспокоил своим вниманием к его здоровью и всему остальному. Что с одной стороны – его мнение учитывается – как бы удовлетворяет его, но с другой – а вдруг с ним случилось что-нибудь из ряда вон выходящее (понятно, что не то, какое выходящее с ним произошло) – совсем его не устраивает, во всём этом чувствуется лицемерие и прослеживается людское равнодушие к чужой судьбе.
– Вот сдох бы я там от обезвоживания, то этот Томпсон только руками развёл, и с упорством человека уверенного в своей правоте, заявил бы, что я сам просил и даже настаивал на том, чтобы меня не беспокоили. Вот я и не побеспокоил. – Маккейн чуть не задохнулся от своего возмущения на этого Томпсона. – Я тебя так не побеспокою, падла, что своих не узнаешь. – Сорвав табличку с двери, Маккейн бросил её на пол и хорошенько, хоть и бесполезно потоптавшись на ней, выдвинулся по направлению ресторана. Правда поначалу он хотел так неожиданно навестить генерала Томпсона, чтобы тот в пал в кому, но видимо за время своей болезни он потерял много сил и поэтому визит к этому подлецу Томпсону, был отложен им до худших для этого генерала времён.
При этом всё в нём говорило о том, что сейчас время обеда. И Маккейн в этом не ошибся, ресторан, сколько себя в нём помнил Маккейн, как всегда был наполнен людьми и приятной для глаза сутолокой. При этом, судя по всему и присутствующим в ресторане лицам, все только и ждали, когда к ним присоединиться, так надолго пропавший с глаз долой Маккейн, и поэтому присутствующие в ресторане люди, без него не начинали свой обед.
Правда так подумал только Маккейн (но таковы все люди, они склонны преувеличивать свою значимость для незнакомых и знакомых людей), тогда как, судя по своеобразному шуму, который всегда стоит в такого рода заведениях, всё же кто-то уже взял в свои руки столовые приборы и пробовал с них на вкус сегодняшние блюда. Впрочем, когда Маккейн появился в ресторане, то этот шум в один миг вдруг затих, что в свою очередь даже увеличило кульминационный эффект появления Маккейна.
Ну а когда ты на званый обед являешься в числе самых последних (со всей уверенностью пока что нельзя сказать, что Маккейн был самым последним), да ещё особую пикантность моменту придаёт ваш последний знаковый уход, с последующей вашей пропажей на достаточно долгое время, то по другому на вас и не могут смотреть при этой новой встрече – как только с удивлением – и с чем он явился, не запылился, – и нескрываемым любопытством – ну-ну, посмотрим, что он скажет в своё оправдание.
Маккейн же останавливается в дверях, чтобы с одной стороны зафиксировать всеобщее внимание на себе (он, что ни говори, а любил находиться в центре внимания) и с другой стороны, чтобы осмотреться по сторонам и попытаться понять, что могло за время его отсутствия здесь измениться.
И первое, на что и на кого за этим что наткнулся Маккейн, так это был капитанский стол, который по своему капитанскому праву занимал самое лучшее, центральное место в ресторане, рядом со сценой, где по вечерам можно было потанцевать, а когда и послушать выступление музыкантов.
Ну а на капитанский столик, всегда и в данном случае, любо-дорого посмотреть. Всё на нём и за ним радует глаз, окромя только сидящего во главе него капитана Мирбуса, который даже не изменился в лице, когда Маккейн появился в дверях. И он как излучал довольство, а, по мнению многих, понятно, что завистников, самодовольство, так и продолжал его излучать, свысока глядя на Маккейна. Впрочем, их, этих мнительных насчёт капитана людей, тоже можно понять, всем ведь хочется оказаться на месте капитана, в распоряжении которого всегда лучшие блюда, и не только те, которые находятся на столе, но и те, которые сидят за его столом.
Так с левой от капитана стороны, сидит столь лучезарная в своей яркости блондинка под впечатляющим именем Атлантида, что даже приходится щуриться и время от времени пропускать лишнее внутрь и мимо себя, глядя на неё. Ну а справа от него присела на край стула шатенка, с не менее интересным именем Атлантика, и своим очаровательным видом радует глаз всех тех, кто посмотрит на неё, за исключением разве что только блондинки, которой мешает радоваться капитан Мирбус, перегородивший для неё своим лицом все виды шатенки. Впрочем, ей этого и не надо, как, в общем, всем сидящим людям за капитанским столом, она, как и другие люди за этим столом, заняты только одним – они не сводят своего восхищённого взгляда с капитана Мирбуса и, заглядывая ему в рот, с придыханием ловят каждое им сказанное слово.
– Как будто его слова чем-то качественным отличаются и лучше наших слов. – До кипения внутри себя возмущались всё те же завистники, глядя на то, как вздыхают сидящие за капитанским столом дамы, стоит только капитану Мирбусу что-нибудь им самое пустяшное сказать. – Да он всего лишь факторизировал, что сегодня погода хорошая. А дамам за его столом уже стало жарко от этих его слов, и они принялись приоткрываться перед ним. У, гад ползучий. – От видов такой несправедливости, творящейся за капитанским столом и на глазах всего зала, темнели разумом едоки, начиная вести себя несколько вызывающе и запамятливо – они начинали в разной степени приличия нарушать правила этикета и поведения за столом, путаться руками, хватая не в те руки ножи и вилки, более чем требуют правила приличия задерживать свои взгляды на том, на чём не стоит долго задерживаться, и до неприличия низко опускать свои взгляды… Нет, не в ответ на чей-нибудь взгляд, а наоборот, выступая подстрекателем ответного недоумения стоящего во взгляде на них.
При всём, при том, каждый из находящихся в ресторане людей, несмотря на то, что у него внутри всё так кипело при виде такой несправедливости, ничего так страстно для себя не желал, как получить от капитана Мирбуса приглашение за свой стол – Мирбус время от времени, исходя из только ему известных причин, посылал кому-нибудь из пассажиров приглашение за свой стол. Так что у каждого пассажира имелся свой вполне реальный шанс оказаться за столом капитана, где он мог вкусить всё тех же яств и кушаний, которые подавались и за его стол, поговорить с капитаном о делах насущных и волнующих себя вещах («Сколько футов под килем?», – почему-то многие именно с этого вопроса начинали свой разговор с капитаном – что и говорить, стереотипное мышление), и всё это в настоящей близости от столь очаровательных капитанских спутниц, что как раз и придавало особенный вкус всем этим кушаньям и значимость самым пустяковым разговорам с капитаном на такой тет-а-тет.
На этот же раз, гостем за капитанским столом оказался… Обомлевший Маккейн глазам не мог своим поверить: «Какого чёрта?!» (правда, он что-то такое подспудно уже подозревал), – собственной персоной, сам генерал Томпсон. Впрочем, генерал Томпсон, надо отдать ему должное, тоже не сразу смог своим глазам поверить, когда в дверях ресторана, так неожиданно для всех и в особенности для него, появился Маккейн. Отчего всё это время не скрывавший своего веселья и, не убиравший со своего лица улыбки Томпсон, в один момент замер в одном немигающем в сторону Маккейна положении и, держа в одной руке вилку с нанизанным на ней куском мяса, а в другой, приготовленный для одухотворения себя внутрь бокал с шипучим напитком (бокал между тем оказался в таком приграничном положении, что из него вот-вот могло вылиться всё его содержимое прямо на брюки генерала Томпсона), теперь не смел, да и не мог пошевелиться.