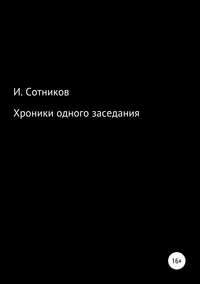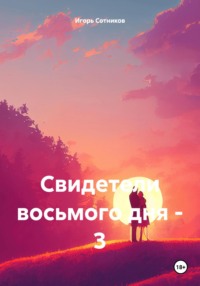Полная версия
Причины и следствия моего Я
– А вот спрашивается, какого ладу или чёрта, что пока есть вопрос относительный, меня тогда дёрнуло взяться за ведро (которое, между прочим, как того требует моя конституция решений, ещё не переваливалось мусором через края) и в такую ненастную, под дождём погоду, взять и пойти выносить мусор. М-да, в этом моём поступке, если и нет места мистике, то определённо не обошлось без вмешательства внешних, потусторонних сил, – принялся размышлять Алекс, наблюдая за тем, как какой-то, а скорее всего никакой из себя гражданин, что-то там для себя находил.
Сам же никакой гражданин был таким или верней сказать, виделся Алексу, только исходя из своего характерного для асоциальных типов внешнего вида. Где его костюм был всего лишь не ярким дополнением к главной атрибутике его внешнего я, его фонтанирующего мыслями, радужного от переливов синих и жёлтых красок лица. При этом его мысли и их выражения, видимо были столь радикальны и несвоевременны, что его товарищи по несчастью, либо же по дороге к счастью, посчитав его за человека опережающего своё время, а также пьющего вне очереди и за двоих, таким своим незамысловатым кулачным способом, заботясь о его безопасности и здоровье, всего лишь останавливали его чрезмерность понимания жизни.
Ведь каждый знает, а в особенности люди их круга, что всякая неумеренность ведёт к забывчивости, которая вначале окутывает самого неумеренного человека, для которого всё то, что не касается его неумеренности, отходит на задний план, а затем, поглотив его, уже самого выкидывает на задний план жизни. Где уже никому нет дела до него, что в окончании и приводит его к этим местам, уже чужой отхожей переполненности. И там они, перебирая остатки чужой неумеренности пития и жития, уже могут более спокойно всё осмыслить и, довольствуясь малым и тем, что беспечный Бог подаст, наслаждаться жизнью четырехзначной буквенной аббревиатуры БожеОтпустиМоюЖизнь.
– Да, наверное, и в его жизни не обошлось без вмешательства этих управляющих нашими поступками злокозненных сил. Ведь не просто так, за делать нечего (это тоже своего рода тревожащая все деятельные умы бездеятельно-побудительная причина), он потянулся за рюмкой водки или ещё чего в той же градусной мере. Однозначно, для этого существовала своя очень и очень веская причина. – Алекс, заметив, что никакому гражданину повезло, и в его руках оказалась кем-то пропущенная мимо глаз только початая бутылка, которая в тот же самый найденный никаким гражданином миг, была открыта и согрета его распухшими от таких частых прикладываний губами.
– Ну, даёт! – Вздрогнув от восхищения при виде такой ухватистой ловкости никакого гражданина, который за один присест, хотя в таком случае для данного процесса такая формулировка будет не слишком точна и полна, правда, если бы был присест, то тогда бы бутылка, пожалуй, ещё бы была полна, ну а так как она уже перестала быть таковой, то будет логичнее сказать, что за один пристой исполнил себя. Это означает, что он показал то, на что он способен, из чего в данном очень значительном для понимания случае, плавно вытекает своя последовательная логичность, говорящая о том, что он также показал то, что он больше ни на что не способен. И скорей всего, он попал под жернова судьбы совсем недавно и ещё не успел избавиться от своих домашних замашек. И он, проявляя неумеренность, совершенно не задумывается о своём будущем, как делают прожжённые бычками и пропахшие клозетами, которые они в виду временного согрева носят всегда с собой, эти отождествления подворотен и изнанки жизни, его товарищи по счастию, несчастию и местожительству, люди одухотворённые одним словом.
А ведь они люди привычные ко всем недоброжелательностям улицы, и, смотря на мир с большим оптимизмом, всегда учитывают свою будущность, которая застав тебя в морозное утро, лежа в блевотине под лавкой на остановке, настоятельно требует от тебя присутствия духа, для поддержания которого всегда нужно иметь своё небольшое энзэ (не растрачиваемый запас). Ведь всегда так получается, что ты получаешь то, что не ожидаешь, что по своей сути, где для тебя нет места предрешенной участи, и есть оптимизм. Тогда как всякий конченный пессимист считает, что он всё знает, и всё как всегда идёт по своей накатанной, и ему уже точно никуда с этой гладкой респектабельной дорожки не свернуть.
– Тьфу! – Проходя мимо лакированного «Кадикала»… Ну ладно, Кадиллака. Проявлю солидарность с этими оптимистам и, выражу своё презрение к этим «писсимистам», (да, всё правильно), послав им свой смачный привет.
Ну а вечером, после своей трудовой смены, они, эти люди мира, собравшись где-нибудь (размышляя стереотипно), например, в теплотрассе, куда они пришли не с пустыми руками, а как заботливые кормильцы, с полными пакетами, в которых чего только нету, начинают проводить свой досуг (они в отличие от официально трудоустроенных граждан, не взирая на свои болезни, которых у них ни с честь, не покладая рук и ног на свою занятость, главный принцип которой заключен в том, что их ноги кормят, ведь их рожи, к большому сожалению, мало содействуют привлечению доверия и, значит, капиталов, трудятся по никем не утвержденному, ненормированному и без выходных графику). Так для начала, под собственные духовные испарения (чем крепки такого рода люди, так это своим стойким, ни с чем не перепутаешь, не пробиваемым духом) и весёлые шутки достойных себя и своего образа жизни матрон, которых всегда можно приободрить хорошей затрещиной или шлепком по заду, кормилец и его напарник, без которого очень сложно отстаивать свои права на закрепленные своим авторитетом территории близлежащих к этой теплотрассе помоек, начинают выкладывать из пакетов на добытый таким же способом стол то, что позволит им сегодня нескучно провести вечер.
– Сегодня мы гуляем! – Громко заявил кормилец, вытащив из пакета полуторалитровую пластиковую бутылку. После чего бросил торжествующий взгляд на свою подругу по теплотрассе, на чьём лице, опухшем от возлияний и необходимости лежать на твёрдых поверхностях, а не на диване, с трудом отыскал должное восприятие сказанного им. – Как только зима закончится, то надо будет её бросить, – сделал вывод кормилец, чья относительная трезвость позволила ему здраво посмотреть на малую симпатичность (отчего ему сразу же захотелось сгладить её, приложившись к бутылке) его подруги Надьки, которая в последнее время совсем оборзела и, не дожидаясь его, уже источает радость своего бытия.
А ведь он, как человек здравомыслящий, для которого всё это чувствительное баловство, является пережитком молодости, и выделил её из всей огромной массы претенденток на его благосклонность, лишь из-за её объемных размеров, которые, по его здравому рассуждению, были способны согреть его в наиболее холодные ночи. Но она, паскуда такая, освоившись и возомнив о себе не знамо чего, используя его тягу к задумчивости, с которой он, выпив лишка, ныряет под стол, вместо того чтобы показать свою незаменимость и, вытащив его из под стола, согреть в своих объятиях, раскрывает их для кого-то другого и, как ему кажется, для этого Витька. Кормилец с подозрительностью во взгляде посмотрел на своего напарника Витька, который, падла такая, однозначно хочет занять его место главы теплотрассы.
– Нет уж, не бывать такому! – Кормилец, крепко сжав пластиковую бутылку, решил, что сегодня же подпоив этого Яго, вытрясет из него всю правду о его ночных шашнях с Надькой.
Да, кормилец не в пример современному поколению начитан. «И ты, Брут! Мавр сделал своё дело, Мавр может уходить». – И ещё что-то в таком поэтическом роде, может выплеснуть на вашу голову знаток сонетов и запоминающихся стихотворных фраз, любитель поэзии и пышных булочек, кормилец Филимон. Который, надо отдать ему должное, благодаря этому своему поэтическому новаторству и занимал такое своё привилегированное положение среди различного рода пышнотелостей, чья приземленная материальность, так сказать, стремится ко всему духовно возвышенному.
– А Филимон сегодня молодец! Ловко сумел заговорить зубы этому недотёпе. – Сказал Витек, доставая из пакета очень разнообразный продуктовый набор, который, к их удовольствию, уже был предусмотрительно раскрыт передаточным звеном между магазином и ими потребителями – самими покупателями. Этими носителями сбережений, которые и нужны лишь для того, чтобы тратиться в магазинах, тогда как все сливки подбирать будут они, работники интеллектуального труда, без практического знания которого, так просто и не выживешь на улице.
– Угу. – Кормилец Филимон интроверт, и поэтому несколько скуп на выражения своих чувств, да и к тому же за всеми этими похвалами Витька, ему теперь видится нечто другое – коварство и вероломство. «Ты мне тут зубы не заговоришь», – Филимон подумал про себя и, прищурившись, обдал Витька холодным взглядом.
– Ну что, пора бы уже согреться. Давай, наливай. – Витёк своим соударением железных кружек вывел Филимона из своей внутренней констатации факта, планируемого Витьком заговора против него. После чего Филимон, сделав усилие, улыбнулся и, раскрутив бутылку, принялся разливать по кружкам эту содержащуюся в бутылке ядерную смесь.
– Я прямо уже чувствую внутренний запал вискаря! – С дрожью в теле, как и все присутствующие, не сводя своего взгляда с горла бутылки, из которой вытекала ядреная жидкость, сопроводил своим замечанием это действие Витёк. Что же касается самой ядреной жидкости, то в её консистенции были замешены десятки желаний и мокрот очень различных и очень незнакомых людей, которые по той или иной причине не удосужились увидеть дно своей бутылки. Которая в один ловкий момент перекочевала в руки Филимона и была перелита в эту пластиковую ёмкость, в которую, в общем, без всякого разбора и очередности и вливались все остатки недопитий уже не слишком бодрых людей.
Ну а сегодня Филимон, с помощью своих умелых действий, сумел не только выдавить из прохожего осознание его, Филимона, бренного бытия без каких-либо сигарет, а пока этот зазевавшийся прохожий делился с ним своими сигаретами, Витёк незаметно умыкнул у него его пакет, где, к их радости и оказалась только початая бутылка вискаря. Ну и этот вискарь и составил основу внутреннего содержания этой пластиковой бутылки. Оттого-то наверное Филимон, уставший от примитивности пития с примесями, предчувствуя практическую неразбавленность напитка, и заявил, что они сегодня гуляют.
– Ты, я смотрю, не только чувствуешь, но и весь запах уже втянул в себя, – с раздражением заявил Филимон, явно придираясь к Витьку (Филимон и сам во всю работал ноздрями, втягивая в себя эти возбуждающие и будоражащие сознание запахи).
Но Витек ничего не слышит, и как только Филимон каждому из них отмерил свою первую порцию, с жадным нетерпением приложившись к кружке, в один момент исчерпал все её возможности, после чего с благодушной улыбкой на лице отставив кружку, принялся уминать сыр с колбасами. Филимон же, чьё сознание, устав от своей занятости этим Витьком, мигом склонило его к своей кружке, как в детстве упершись лбом о края кружки, уже со своей жадностью принялся пополнять своё сознание этим источником зависимости от самого себя.
– Да и хрен на этого Витька. О чём с ним можно говорить, – делая последний глоток, порешил Филимон, чья приветливая душа, имея высокую чувствительность, уже с первого прикосновения жидкости к себе, начала примеривать себя под мир, а не как до этого, мир под себя. После чего выдохнув из себя попутные запахи, Филимон, игнорируя Витька, решил обратить свой взор на Надьку, которая, по его разумению, требовала от него сурьёзного разговора. Но Надька, к его запоздалому вниманию, справившись со своей дозой куда как быстрее, чем он, не выдержала наплыва этих новых чувств на старые дрожжи, которые несла с собой эта новая чаша пития, и, уйдя в себя, уронив голову на грудь, принялась посапывая, воодушевлять себя и всех ко сну.
– А Надька в своём репертуаре. – Заржал Витек, как только заметил такое достойное себя поведение Надьки.
– Ну, тебе виднее, ты, наверное, все её репертуары знаешь. И ни одного не пропускаешь. – Филимон, увидев в этом заявлении Витька, намёк на их с Надькой более близкие чем с ним отношения, не выдержал и бросил Витьку эти свои подозрения.
– Да успокойся ты, Филимон. Ты же знаешь, что меня толстые бабы не прельщают. Вот худющие, это да. Да и к тому же, если смотреть на мир с житейской стороны, то им при той же отдаче на прокорм и на пропой, куда меньше надо. Так что ты, Филимон, при всей своей сообразительности, допустил большую ошибку, остановив свой выбор на этой Надьке. Да уж, обижайся, не обижайся, а я ума не приложу, что ты в ней такого нашёл, чего в других нет? – задался вопросом Витёк.
Что и говорить, а Витёк своим заявлением заставил Филимона более пристально посмотреть на эту малосимпатичную Надьку, к которой, как он понял сейчас, он имел не только свой расчёт, но и определенное притяжение. А ведь к этой толстой бабе с синяком вместо лица, от которой пахло похлеще, чем от них с Витьком вместе взятых, от которой, по большому счёту и толку было мало, его, тем не менее, каким-то совершенно непонятным образом тянуло. И ведь наверное не зря, он ещё какие-то пять минут назад, из-за неё хотел этому Витьку заехать в рыло.
«А что в ней есть такого особенного, чего нет у других особ женского пола?» – Задался вопросом Филимон, прокладывая свой мысленный путь через её взлохмаченные и грязные космы, свисающие со всех своих неприглядных сторон на лицо Надьки, которое кроме этого навеса защиты, имело ещё одно прикрытие от белого света – эти её синяки, упорядочено (Филимон отдал себе должное, за такую свою очень ровную кулачную приметливость) расположившиеся под обоими глазами (не то что у одноглазой Маруськи, которая точно не попадает в список его зазноб), и слой гигиенической грязи на её толстенных щеках, защищающий её, как она говорит, от угревой сыпи.
«Да, вроде бы всё то же самое», – сделал вывод Филимон, после того как мысленно прибрал её лохмы в причёску и, использовав свой внутренний Фотошоп с его огромным набором инструментов, подчистил и закрасил тональные несоответствия на лице Надьки. «Ну ещё для приличия накинуть на неё какое-нибудь новомодное шмотье, отвести к какому-нибудь новомодному стилисту и визажисту, то, пожалуй, Надька, своим видом затмит всех этих бывалых на подиумах курв». – Филимону, аж стало жарко от этих своих самосознаний.
– Потенциал и возможность – вот что меня, как всякого художника ищущего свою Галатею, в ней душевно напрягает, – резюмировал своё видение Надьки обалдевший Филимон, сжимая в руке, запущенной в карман куртки, один относящийся к женским украшениям предмет. Который ему сегодня, в независимости от желания его хозяйки, вряд ли захотевшей вот так просто расстаться с этим симпатичным украшением, по случаю достался в виде презента. Что также было закреплено тем, что его напарник Витёк оказался лопухом, раз не заметил этой удачливости Филимона, который сумел прихватить из сумки садящейся в автобус симпатичной дамы небольшой, коробочного вида свёрток. И как результат, Витёк был вычеркнут из числа тех соискателей, кто имел право на свою долю в части этого предмета, который, по глубокому разумению Филимона, теперь переходил в его единоличное пользование.
Что же касается самого предмета, то, когда Филимон сославшись на уединение, в кустах развернул сверток, то его глаза чуть было не ослепли от игры света камней этой жемчужной серёжки старинной работы, которая определенно не имела малой цены, а вот близостью к заоблачным, скорей всего, могла похвастаться. Филимону это загляденье пришлось по нраву, и он, облизнувшись, ещё раз поздравил себя с такой своей предусмотрительностью – не сообщать ничего Витьку. После чего, решив никому не сообщать и тем более ни с кем не делиться этой находкой, выбросил коробку, а саму жемчужную серёжку засунул в потайной отдел куртки, который помещался в её подкладке, куда складировалось всё то, что не могло задержаться в самом кармане, входом в который служила дырка в кармане (так сказать, условное дно, которое как раз этим своим качеством и представляет надёжность – ведь ниже падать некуда и, значит, всякая вещь, находящаяся в состоянии полного падения и в то же время пребывая на дне, уже никуда не денется).
Что и говорить, а подкладка всякой куртки, пиджака или какого другого вида верхней одежды, несёт в себе не только нимало потаённостей, но и в некотором роде глубокий сакральный смысл бытия для всякого иначе мыслящего человека, не нашедшего своего места в этом своём кармане жизни, среди её данностей. Где не ты определяешь с кем и с чем иметь дело, а кем-то там наверху, кто за тебя всё решил и, исходя из своего желания, когда только он хочет, что-то внесёт сюда и тем самым в твою жизнь чего-то принесёт, а когда наоборот, заберёт.
И видимо этот инакомыслящий человек, в один из моментов своей жизни, не пожелав больше мириться с этой обыденностью толчеи, а в особенности со своим зависимым от определяющей его судьбу божественной длани положением, взял и оборвал связующие нити с внешним миром, и найдя свой выход вниз, подальше от этих верхних пустот, взял и ушёл в свою низовую тишину.
Нет, конечно, он не сразу пошёл таким экстремальным путём, а он и до этого не раз пытался обрести контакт с этой божественной дланью, которая и слушать ничего не хотела, раз за разом, на все его разговорные попытки только отмахиваясь. Ну а когда во время особенных катаклизмов, при сильной тряске, он подкинутый до самых небес, попытался заглянуть сквозь верхние пределы неизвестности, то в тот самый момент, когда перед ним уже совсем рядом замаячила тонкая прощелина света, заглянув в которую, пожалуй, можно было бы ответить на все волнующие тебя вопросы, касающиеся своего мироздания, то эта судьбоносная длань, видимо не желая потерять тебя, тут же покрепче прижимала этот проход.
Ну а кому спрашивается, хочется жить в темноте своего разума, или, вернее сказать, жить в ограниченных рамках своей разумности, которая практически полностью зависит от внешних малопонятных сил, для которых твоя темнота, скорей всего, и является сдерживающим тебя сохранным фактором. То нет ничего удивительного в том, что наиболее несогласные с таким положением вещей, пытаются оспорить сей фактор зависимости, и уже со своей стороны пытаются отыскать для себя другое дно, куда они будут складывать свои отражения мыслей.
И вот прокладка и стала тем самым местом, где нашла себя и своё место эта иначе думающая субстанция жизни, которая, конечно же, могла пойти и дальше, если бы не сдерживающий фактор, а именно, заложенные в каждой типологии живого организма пределы его сил, как физических, так и сознания, от которых зависит высота возможностей и глубина дна. Ведь кто знает, что там выше высокого (небес) и ниже нижнего (подкладки), за пределы которых нам позволит заглянуть лишь расширение возможностей нашего разума, который на данный момент готов лишь к своим радостям жизни, либо же в кармане своей разумности, либо же в нижнем пределе неразумности или иной разумности, в подкладке.
Правда, у некоторых ещё более инакомыслящих, у этих вышеупомянутых, с трудом поворачивается язык назвать их гражданами, между тем на этот счёт имеется своя гипотеза. Ведь все знают, а в особенности эти не слишком ответственные граждане, находящиеся в самых близких отношениях с материальностью этого мира, будучи часто притёртыми и прижатыми к стенке, а ещё больше к себе бытием этого мира, что бытие определяет сознание. И этот неответственный гражданин, оказавшись в своём кармане жизни, конечно же не мог так просто смириться со своей реалией жизни, где кто-то там склонял его к этой своей обреченности.
И он, используя свой главный инструмент своего понимания разум, конечно, пытался постичь им того, чья же божественная длань определяет его сознание. Которое пришло к такому выводу, что, возможно, что этот его карманный мир не единственный, и что кроме него существует мириады карманных одиночеств, которые также как и он ограничены пределами своего сознания и заключены каждый в своём кармане. Ну а эти определяющие его сознание, присутствующие в его жизни вещи и объекты, явно не зря даны ему в своё пользование. И если суметь определить их начальность, так сказать, сущность, то это даёт свою возможность постичь того, чья божественная длань несёт и вносит изменения в его жизнь.
Первое, что попалось на глаза карманному жителю, а вернее сказать, под руки, так это самая острая в подкладке и очень больно колющая вещь – непонятно каким образом оказавшийся в кармане этот сапожный гвоздик. Что, наверное, логично, ведь если вещь несёт в себе колюще-режущие свойства, то она как вещь несущая в себе свойства двойного назначения, своей колющей бока остротой, быстро излечит вашу близорукость и очень прочувственно не позволит себя не заметить. И хотя предсказуемость и сказуемость этой острой вещи – гвоздя, уже определенно намекала на своё я в этом мире, тем не менее, неразумность любого карманного жителя, как вещь по большей части инертная, совершенно не спешит избавиться от своей «–не». И пока же эта данность каким-нибудь образом не укажет на свою приспособленность и применимость, то, пожалуй, разум карманного жителя так и будет пребывать в самом себе.
И пока названная собою разумность пребывала в своём первозданном состоянии – в созерцании, то эта без духовность, гвоздик, под физическим воздействием потрясывания кармана, сумел вклиниться в карманный шов, что при его остроте было неизбежным. И вот когда он после некоторых трений об шов кармана, расширил свои возможности для падения, и вышел за свою объёмную предельность, то он не стал дожидаться напутственного слова, а тут же упав в образовавшуюся дыру, выпал из поля зрения созерцания разума.
– Так вот оно что! – Заглянув в эту тёмную бездну, сделала свой первый вывод разумность (применимость определяет сущность вещи). – Это твой путь! – Посмотрев вверх и, узрев недоступность этого пути, сделала вывод разумность, укрепившись в своём решении, что, скорей всего, не только не зря, а указующе символично божественная длань показывает ему это направление пути.
Ухватившись за последний дар небес, разменную монету, гвоздь погрузился вместе с ней в эту область тьмы, которая и привела его в это новое для себя жизненное место – подкладку кармана. В такую жизнь, которая не сильно, а местами даже преимущественно отличалась от той, которая шла на верхнем этаже разумного пространства. Эта же жизнь внизу, в этой прокладке жизни, позволяла через дыру в кармане (по местной классификации – окно в небо) более сфокусировано видеть всё то, что делается наверху. Что в свою очередь даёт возможность лучше увидеть и понять, как эти существующие жизненные необходимости сосуществования всех элементов жизни уживаются все вместе, так и главное – более детально рассмотреть божественную длань (чем дальше находишься от мирских забот, тем ближе к тебе ненасущное).
Что же касается насущной жизни в прокладке, то божественная длань и здесь не оставила нуждающихся без своего внимания, и время от времени подкидывает, как пищу для живота (всё больше семечки), так и для ума (какая-нибудь оторванная пуговица). Имела ли тут место случайность, где божественная длань вошла в соприкосновение со своей божественной действительностью, и, зацепив чью-то носовую возмущенность или зацепившись за что-то более монументальное, типа забора, тем самым потеряла часть себя, лицо и часть предметов одежды, или же это есть факт непреложности бытия вещей, имеющих свой срок службы и значит конечность, совершенно невозможно сказать.
Но эти загадки бытия мироздания, так и не откроются ограниченному карманом разуму, ведь вселенский разум не менее разумен и знает, что этому разуму нужно. И он, заботясь о своём меньшем собрате, время от времени и предоставляет ему возможности для раздумий в виде всех этих загадок. Ведь ей, этой карманной разумности, как и всякой малой ипостаси, для того чтобы развиваться, просто необходима зарядка для ума.
Впрочем, все эти ответы на вселенские загадки, не откроются и более крупному разуму, чья, по мнению карманного разума, божественная длань, а для самого носителя длани – просто рука, в один момент в подкладке кармана укрыла от чужих глаз это жемчужное сокровище.
И вот сейчас эти воображения взыгравшиеся в голове Филимона, чей организм подвергся нападению чувствительности, появлению которой поспособствовала градусность жидкости, вдруг заставили его забыть все свои крепкие убеждения и принципы (никогда ни с кем не делиться), на которых, в общем, и основывалась вся его сущность. И в один из самых забывчивых моментов, он вдруг решил подарить Надьке эту серьгу. «Пусть порадуется», – улыбнулся про себя Филимон, представив эту веселую, с признаками зубного разложения улыбку Надьки.
– Ик. – Из глубины себя очень душевно ответила Филимону на эти его думы Галатея-Надька, чем указала ему на существующие реалии жизни, где его таланта камнетёса, пожалуй, будет маловато, для того чтобы ликвидировать эту её неотёсанность.