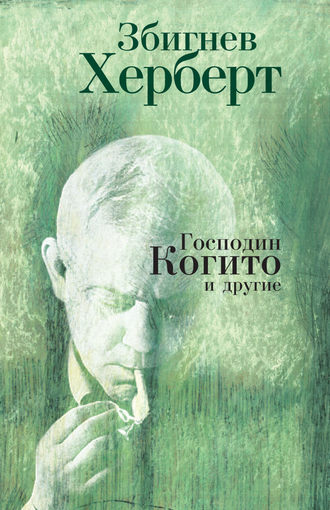
Полная версия
Господин Когито и другие
Свое воображаемое возвращение во Львов Херберт описывает в стихотворении «Высокий Замок».
Высокий Замок – это парк на горе, возвышающейся над Львовом, на горе, где сохранились руины замка XIV века. На гору можно вскарабкаться пешком, но можно ехать и на трамвае. С горы – вид на весь город и на окрестности. Львовянин Станислав Лем, земляк Херберта, человек того же поколения, опубликовал книгу о своем львовском детстве и отрочестве. Книга так и называлась – «Высокий Замок»:«…Тем, чем является для христианина небо, был для каждого из нас Высокий Замок… это, собственно, было не место, а состояние – состояние совершенного блаженства…»
В 1973-м, посылая Херберту первую публикацию его стихов в «ИЛ», я послал ему также и только что вышедший в Москве томик другого польского поэта-львовянина, Леопольда Стаффа, с моим предисловием, в этом предисловии мои львовские восторги – тогда еще свежие – присутствовали в полной мере. Херберта особенно тронула надпись: «Zbigniewowi Herbertowi – rzecz о Staffie i o Lwowie». Так началась наша переписка. А увидеться удалось лишь много лет спустя.
При встрече оказалось, что Херберт не только свободно читает по-русски, но и свободно, без акцента, говорит (на мое удивление по этому поводу он заметил с гордостью: «У меня вообще способности к языкам»). А вот русские мотивы в поэзии Херберта немногочисленны. Имена тоже. Толстой и Достоевский? Нет, Толстой и Кропоткин. Достоевский лишь мелькнул – рядом с Паскалем – в стихотворении «Бездна Господина Когито» («ИЛ», 1990, № 8). Зато о побеге Петра Кропоткина из царской тюрьмы рассказывается подробнейшим образом в стихотворении «Игра Господина Когито». Херберт читал и помнил записки Кропоткина, но кое-что изобразил иначе, чем было. Так, скрипач, дающий знак к побегу, играет у Херберта «Похищение из сераля» (название вещи Херберт выбрал ради «игры», ради игровой, иронической параллели к «похищению» царского узника), а не мазурку Контского, как было на самом деле. И самый побег у Херберта происходит не из тюремной больницы, как было, а из Петропавловской крепости – из твердыни самодержавия.
Подобным образом в стихотворении «Смерть Льва» многие детали бегства и смерти Льва Толстого сохранены Хербертом, а кое-что Херберт изменил. Известно, что православная иерархия, отлучившая Толстого от церкви, мечтала добиться предсмертного покаяния великого еретика и вернуть его «в лоно», но ничего из этого не вышло. Тщетно пытались в ноябре 1910-го пробиться к умирающему Толстому в Астапово тульский епископ Парфений и старец Варсонофий. Так что диалог умирающего Толстого и «попа Пимена» Хербертом вымышлен. Последние слова Толстого были, как мы знаем по рассказу его дочери, об истине и о любви. В версии же Херберта умирающий Толстой дважды повторяет: «Надо убегать». Эти слова – постоянный внутренний монолог Толстого последних лет, иногда выплескивавшийся на страницы его дневника. В стихотворении Херберта бегство Толстого трактуется в свете предсказаний Иисуса о кончине века: «…Тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы… Молитесь же, чтобы не случилось бегство ваше зимою…» (Евангелие от Матфея, 24, 16 и 20). Херберт хочет сказать, что только Толстой (а не церковь) верно читает и толкует Писание: Толстой знает, что конец света уже наступил, что начавшийся XX век и есть конец света, приходит «время беглеца и погони», «время Великого Зверя».
Поэт XX века, Херберт противостоял этому времени. И помогал держаться другим людям. «Ее достоинства, – писал о поэзии Херберта Иосиф Бродский, – уравновешивают безмерность физического и психического давления, оказываемого на человеческую личность современной действительностью». Бродский особенно подчеркивает «духовное мужество» Херберта. Это из предисловия Бродского к итальянскому изданию стихотворений Херберта, под предисловием – дата и место написания: Нью-Йорк, ноябрь 1992.
«…Уход Иосифа Бродского я ощущаю очень болезненно, – писал мне Херберт в открытке от 18.07.1996 (на открытке – а Херберт придавал значение изображениям на открытках, посылаемых и получаемых, – Венеция, которую так любил Бродский, Венеция, где его похоронили). – Он навестил меня в Варшаве. Я очень его ценил, любил его как человека большого сердца и превосходного мастера».
Таков постскриптум, а содержание открытки, с трудом нацарапанной человеком, временно чуть выкарабкавшимся из экстрмальностей болезни, – болезнь и «борьба с костлявой»: «…Со здоровьем у меня чуть получше. И днем и ночью втискивают мне кислород в легкие с помощью специального устройства. Борьба с костлявой продолжается, и, кажется, впервые – несколько очков в мою пользу. Начал немного работать… Часто и сердечно вспоминаем нашу встречу в Варшаве. Когда увидимся снова?..»
Открытка от 10.04.1997 еще короче и еще более корявым, но читаемым почерком: «…Отвечаю с таким большим опозданием, хлопоты со здоровьем, которое согласно закону природы ухудшается». А ниже, отдельно: «Еду все быстрее саночками вниз» – эти две строки (стихотворные? хореические? фольклорные?) записаны прозой. У древних славян (это известно, в частности, из записей этнографов в Галиции) стариков, провожая на тот свет, зимой вывозили на санях и спускали в глубокий овраг. На этой открытке Херберта – букет цветов, не вообще какой-то букет цветов, а цветная гравюра, воспроизводящая крестьянский рисунок из деревни в Галиции.
Перед уходом Херберт успел назвать по имени Львов, Галицию – не успел. Но он о ней помнил.
В своих последних книгах Херберт писал об уходящем веке, обо всем, что уже ушло или уходит. Уход самого Херберта обозначил конец XX века в польской поэзии.
(«Иностранная литература». 2001. № 7)Стихотворения
Из книги «Струна света»
(1956)
* * *
Женщины на нашей улице[1]были будничные и добрыетерпеливо тащили с базарабольшой букет овощейДети на нашей улицевечно мучали кошекГолуби —серенькие и кроткиев парке был памятник Поэтудети гоняли обручии разноцветный крикптицы садились на рукичитали его молчаньелетними вечерамижены привычно ждалитеплых табачных губЖенщины не умели детямсказать: вернется лии на закате городагасили огонь рукамиприкрывающими глазадетям на нашей улицесмерть досталась тяжелаяголуби падали так легкокак подстреленный воздухуста Поэтастали пустым горизонтомптицы дети и жены не могут житьв черепках разбитого городана холодной постели пеплагород стоит над водойгладкой как память зеркалаон отражается от самого днаи улетает к высокой звездегде запах пожара такой далекийкак ИлиадаКрасная туча
Красная туча пыли —память о том пожарекогда закатился городза горизонт землинужно разрушитьеще одну вот эту стенуеще один кирпичный хоралчтобы открытая ранамежду взглядом и воспоминаньемзарубцеваласьрабочие те что утромкофе пьют с молоком шелестят газетойотогрели дыханием рассвет и дождькоченевший так долго в умершем воздухестальным канатомнапряженным молчаньемподымают как флагосвобожденное от руин пространствоопадает красная туча пылиперелет через пустынюна высоте уничтоженных этажейвыплыли окна без рамкогда падетпоследняя вертикальрухнет кирпичный хорали поднимется из руин мечтао городе который здесь было городе который здесь будеткоторого нетНадпись[2]
Смотришь на мои рукислабые – говоришь – как цветысмотришь на мои губыим не под силу словом объять мир– покачаемся лучше на стебельке мгновеньяупьемся ветромпосмотрим как заходят наши глазазапах увяданья прекрасней всего на светеочертанья руин смягчают больво мне огонь который мыслитветер который полнит парусруки мои нетерпеливымогутголову другаизваять из воздухатвержу я стих который хотел быперевести на санскритили на пирамиду:когда источник звезд иссякнетмы осветим собою ночькогда окаменеет ветермы приведем в движенье воздухМой отец[3]
Отец мой был поклонник Франсакурил Отменный Македонскийи в синем дыме колыхалсясмакуя шик усмешки тонкойи я в далекие те годыотца склоненного над книгойсчитал Синдбадом Мореходомкоторому порой тоскливоБывало на ковре волшебномон улетал от домочадцевПо атласам бежали вслед мыон исчезал Но возвращалсяв туфлях домашних снова здешнийключами вновь звенел в карманежизнь шла но шла без измененийкапля по капле дни за днямиоднажды занавески снялион сквозь окно и не вернулсягрустил ли расставаясь с намиа может и не обернулсяв одном журнале иностранномя видел снимок остров дальнийу них отец мой губернаторлиберализм у них и пальмыИз цикла «О Трое»
Шли по ущельям бывших улицшли красным морем пепелищи как закатом красной пыльюбыл озарен погибший городШли по ущельям бывших улицрассвет своим дыханьем грелии говорили что нескороподымется здесь первый домШли по ущельям бывших улицнадеялись найти хоть следПоет гармошкаинвалидаоб ивахи о чьих-то милыхПоэт безмолвенДождьК Марку Аврелию
Профессору Хенрику Эльзенбергу[4]
Марк доброй ночи свет гасикнигу закрой Над головоюзвезд яркий клич звучит в ночито речью говорит чужоюнебо то варваров сигналкоего нет в твоей латынито темный страх как темный вало хрупкие брега людскиебьет Он всесилен Слышишь гулприлива Смоет твои буквыстихий неудержимый бунти рухнет мира остов хрупкийчто ж нам – дрожать ли на ветруи снова дуть в погасший пепелгрызть пальцы тщетных слов ищатащить с собою павших тениуж лучше Марк покой пошлируку подай над мраком коснымв утлую лиру чувств пятислепой бьет неустанно космоспредаст нас космос астрономияпорядок звезд и мудрость травтвое величие огромноеи мой о Марк бессильный плачВаршавское кладбище
Завещание
Завещаю четырем стихиям[5]то что имел в недолгом владеньемысль отдаю огнюпускай цветет огоньземле которую любил чрезмерно —бесплодное зерно моего телаа воздуху слова и руки и стремленьято есть лишние вещикапля водыто что осталосьпусть кружит междуземлей небомпусть будет дождиком прозрачнымснежинкой папоротником морозапускай не достигая небак долине слез моей землеверность храня росой вернетсякамень долбить капля за каплейскоро верну четырем стихиямто что имел в недолгом владеньене возвращусь к источнику покояФрагмент древнегреческой вазы
На первом плане видностатное тело эфебаупирающийся в грудь подбородокподогнутое коленорука как мертвая веткаон закрыл глазаотрекается даже от Эосее пальцы вбитые в воздухи распущенные волосы а такжелинии ее одеяньяобразуют три круга скорбион закрыл глазаотрекается от медных доспеховот шлема который украшенкровью и черным плюмажемот сломанного щитаот копьяон закрыл глазаотрекается от всего светав тихом воздухе свисают листьядрожит ветвь тронутая тенью улетающих птици только сверчок укрытыйв живых еще волосах Мемнона[6]убедительно возглашаетхвалу жизниКолеблющаяся Нике
Нике прекраснее всего в тот моменткогда колеблетсяправая рука прекрасная как приказоперлась о воздухно крылья дрожатпотому что Нике видитодинокого юношубредущего длинной колеёйвоенной дорогив серой пыли среди серого пейзажаскал и редких кустов можжевельникаэтот юноша вскоре погибнетчаша весов на которой лежит его жребийрезко качнулась внизк землеНике страшно хотелось быподойтии поцеловать его в лобно она боитсячто юноша не успевший познатьсладость ласкипознавши ееможет быть побежит как другиево время битвыНике поэтому колеблетсяи решает в конце концовостаться в позекоторой ее научили скульпторыНике стыдится минутного колебаньяведь она понимаетчто завтра на рассветедолжен лежать этот мальчикс отверстой грудьюзакрытыми глазамии терпким оболом отчизныпод коченеющим языкомАрион
Вот он – Арион —эллинский Карузоконцертмейстер античного мирадрагоценный как ожерельеили скорее как созвездьеон поетморским волнам и купцам заморскимтиранам и погонщикам мулову тиранов чернеют короныа продавцы лепешек с лукомвпервые ошибаются в счете не в свою пользуо чем поет Арионподлинно никому неизвестноглавное он возвращает миру гармониюморе баюкает ласково землюогонь разговаривает с водой без злобылежат под сенью одного гекзаметраволк и олень ястреб и голубьа ребенок дремлет на гриве львакак в колыбелигляньте как улыбаются зверилюди готовы питаться белыми цветамии все так славнокак было в началеэто он – Ариондрагоценный и многопевныйслушателям головы кружащийон стоит в метели песнопенийу него восемь пальцев как октаваон поетЛишь когда из лазури на западетянутся шафрановые нитичто означает приближенье ночиАрион учтиво кивнув головоюпрощаетсяс погонщиками мулов и тиранамилавочниками и философамии в порту садитсяна спину прирученного дельфина– до свиданья —как же он прекрасен —говорят девушки об Арионекогда он плывет в открытое мореодинокийувенчанный венком горизонтовИз книги «Гермес, пес и звезда»
(1957)
У врат долины[7]
После огненного ливняна луговине пеплапод стражей ангелов столпились толпыс уцелевшего взгорьямы можем окинуть взоромблеющее стадо двуногихправду сказать их немногодобавляя даже тех что придут позжеиз житий святых из хроник сказокно довольно этих рассужденийперед намигорло долиныиз которого рвется крикпосле свиста взрывапосле свиста тишины по взрывеэтот голос бьет как источник живой водыэто как нам объясняюткрик матерей от которых оторваны детиибо как оказалосьспасены мы будем поодиночкеангелы-хранители беспощаднынадо признать у них тяжелая работаона его просит– спрячь меня в зенице окав ладони в объятьяхмы всегда были вместеты не можешь теперь меня оставитькогда я умерла и нуждаюсь в нежностистарший ангелс улыбкой разъясняет недоразуменьестарушка тащиттрупик любимого кенаря(все животные умерли чуть раньше)он был такой милый – рассказывает она со слезамивсе понималчто скажешьголос ее заглушается общим воплемдаже лесорубо котором трудно подумать такоестарый сгорбленный мужичищеприжимает к груди топор– он всю жизнь был мойи теперь тоже будет мойон кормил меня тампрокормит тутне имеете права – говорит он —не отдамте которые как кажется внешнебез боли подчинились приказамидут опустивши головы в знак примиреньяно в стиснутых кулаках прячутленты пряди волос обрывки писеми фотографиикоторые как думают наивноотобраны у них не будуттак они выглядятза мгновеньедо того как окончательно их поделятна тех кто скрежещет зубамии тех кто поет псалмыПритча
Поэт подражает пению птицывытягивает длинную шеюнеуклюжий кадыкторчит как палец на крыле мелодиипоющий он искренне веритчто помогает солнцу взойтиотсюда и теплота звучанияи чистота высоких тоновпоэт подражает спящему камнюспрятавший голову в плечион подобен обломку скульптурыу которой редкий и слабый пульсспящий он уверен что только онуглубляет тайну существованиячто он без помощи теологовухватит жаждущими устами вечностьво что превратился бы миресли бы не наполнял егопоэт копошащийся неустанносреди птиц и камнейКолотушка
У иных в головесады расцветаюта волосы их тропинкик солнечным городамэтим легко писатьглаза закроюти образы потекутлавинойвоображенье моекусок доскивесь инструмент мойпростая палкаударю в доскуона мне ответитДа-данет – нету иных зеленый колокол дереваголубоватый колокол водыу меня колотушкахоть я и не сторожу садыударю в доскуона мне подскажетсухую песнь моралистада-данет – нетИзбранники звезд
Это не ангелэто поэтнет у него крыльевлишь правая рукаопереннаяон бьет ею в воздухеКонец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Цикл «Три стихотворения по памяти» был послан писателю Ежи Завейскому в октябре 1950; стихотворение «Женщины с нашей улицы…», третье в цикле, в той рукописи имело посвящение: «Городу».
2
Стихотворение послано в письме к Ежи Завейскому в октябре 1949; в 1950 публиковалось в периодике.
3
Стихотворение послано было в письме к Хенрику Эльзенбергу в июле 1952, в 1954 публиковалось среди нескольких других в альманахе молодых поэтов. Образ отца мифологизирован.
4
Это стихотворение Херберт послал Эльзенбергу в письме от 16.12.1951. Профессора Эльзенберга (1887–1967), преподававшего после войны в университете в Торуне, Херберт избрал своим наставником в философии. Марку Аврелию была посвящена докторская диссертация Эльзенберга (1921) и книга «Марк Аврелий. Из истории и психологии этики», вышедшая в 1922, экземпляр этой книги сохранился в библиотеке Херберта с его пометками.
5
По-видимому, это стихотворение было толчком для стихотворения Ярослава Ивашкевича, посвященного Херберту: «Четыре стихии владеют миром…» (книга «Завтра жатва», 1963, русский перевод Н. Астафьевой см.: Ивашкевич Я. Сочинения. Т. 1. М., 1988. С. 309).
6
Мемнон – сын Эос, богини зари, погиб молодым под Троей от руки Ахиллеса; по преданию, спутники Мемнона после его смерти обратились в птиц. В римские времена с именем Мемнона стали связывать две статуи в Египте (колоссы Мемнона), которые на рассвете звучали: это сын приветствовал появляющуюся на небе Эос.
7
Современность XX века переплетается в стихотворении с образом «долины Иосафата» из книги пророка Иоиля; так перевели на греческий, латынь, славянские и др. языки древнееврейское выражение, означавшее «долину, где судит Иегова». Место суда неизвестно, как и время его наступления.

