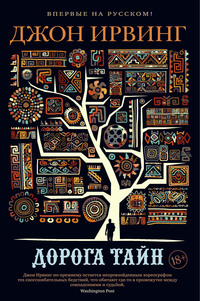Полная версия
Правила виноделов
Может, это выкидыш какого-нибудь животного? В сиротском приюте, особенно если при нем такая больница, слово это не редкость. Но какого? Весил он меньше фунта, длина – дюймов восемь, на почти прозрачной головке что-то темнеет, да ведь это зачатки волос, не перьев; на сморщенном личике как будто брови, заметны даже ресницы. А это что за бледно-розовые точечки на груди величиной с большой палец? Неужели соски? А крохотные скорлупки на кончиках пальцев рук и ног – это же ногти! Держа находку в ладони на вытянутой руке, Гомер помчался прямиком к доктору Кедру. Кедр сидел за пишущей машинкой в кабинете сестры Анджелы, печатая письмо в Новоанглийский приют для малолетних бродяжек.
– Я что-то нашел, – сказал Гомер и протянул руку.
Кедр взял у него плод и поместил на белый лист бумаги, лежащий на столе сестры Анджелы. Плоду было месяца три, от силы четыре. До аборта он, по-видимому, еще «не дергался», но был уже близок к этому.
– Что это такое? – спросил Гомер Бур.
– Работа Господня, – сказал Уилбур Кедр, главный святой Сент-Облака.
Ибо сию минуту ему открылось: это тоже работа Господня – учить Гомера всему, что он знал сам. Дабы мальчик умел отличить добро от зла. Работа Господня – тяжкий труд, но, раз уж хватило духу взвалить его на себя, исполнять его надо наилучшим образом.
Глава третья
Принцы Мэна, короли Новой Англии
«Здесь, в Сент-Облаке, – писал в дневнике доктор Кедр, – мы относимся к сиротам как к отпрыскам королевских фамилий».
Отголоском этого, по-видимому, и было ежевечернее благословение, произносимое доктором Кедром в темноте над рядами кроватей в отделении мальчиков. Благословение следовало сразу за вечерним чтением; после несчастного случая с Винклями доктор Кедр возложил эту обязанность на Гомера, который ему рассказал, с каким чувством читал Диккенса в походной палатке Винклей и что получилось у него это совсем неплохо; правда, Винкли почему-то заснули. Таланты надо поощрять, подумал доктор Кедр, к тому же это прибавит Гомеру уверенности в себе.
Шел 193… год. Гомер стал читать мальчикам «Давида Копперфильда» чуть не на другой день после того, как первый раз увидел человеческий эмбрион. Читал перед сном ровно двадцать минут, ни больше ни меньше. Пожалуй, на чтение романа у него уйдет больше времени, чем у Диккенса на его написание. На первых порах он слегка запинался, и мальчишки немного младше его посмеивались над ним, но очень скоро Гомер стал читать идеально. Часто уже в постели он громко шептал себе первую фразу романа. Она действовала на него благотворно, как молитва, и глаза у него сами собой смыкались.
«Эти страницы покажут, стану ли я главным героем собственной жизни, или им будет кто-то другой», – шептал Гомер. Ему вспоминалась котельная Дрейперов в Уотервилле, сухость в глазах и носу; водяной вал, смывший Винклей; холодная, влажная запятая эмбриона, мертво покоившаяся у него на ладони. Вот кому никогда уж не стать героем собственной жизни.
В спальне гас свет, сестра Эдна или сестра Анджела спрашивали, не хочет ли кто последний раз глотнуть воды или сходить на горшок; под потолком слабо мерцал заметный во тьме волосок лампы, одни мальчишки уже спали и видели сны, другие переживали приключения Давида Копперфильда; и вот тогда отворялась дверь, ведущая в коридор, стены и водопроводные трубы которого были окрашены в больничные цвета, в светлом проеме появлялась голова доктора Кедра, и он громко произносил:
– Спокойной ночи! Спокойной ночи, принцы Мэна, короли Новой Англии! – (Мертвая запятая эмбриона никогда не станет ни принцем, ни королем.)
Бам! – хлопала дверь, темнота воцарялась еще раз, и сироты оставались наедине каждый со своими царственными образами. Каких принцев и королей они вообразят? О каком будущем станут мечтать? Какую королевскую семью, распахнувшую им объятия, увидят во сне? Какую принцессу, готовую их полюбить? Рассеется ли мрак, окутавший их, когда хлопнула дверь и стихли шаги доктора Кедра и сестры Анджелы (или сестры Эдны)? (Эмбрион, скорчившийся у него на ладони, никогда не услышит этих шагов. А какие у него маленькие, сморщенные ушки!)
У Гомера были свои мечтания. Он и не помышлял расстаться с Сент-Облаком. Королевский двор был для него здесь, в приюте. Принцы и короли никуда не уезжали, не мечтали о морских путешествиях, никогда не видели океана. И все-таки даже Гомеру благословение доктора Кедра поднимало дух, вселяло надежду. Принцы Мэна, короли Новой Англии были главными героями своих жизней. Это ему ясно виделось в темноте спальни. Это ему внушил, как внушают отцы, доктор Кедр.
Вести себя, как подобает королю или принцу, можно и здесь, в Сент-Облаке. Наверное, в этом и заключался смысл вечернего благословения.
Гомер Бур, воображая себя принцем, благоговейно взирал на своего короля, стараясь не упустить ни слова, ни движения. Да вдруг вспоминал невзначай холодную, влажную мертвенность того эмбриона, который все не выходил у него из головы.
– Он холодный, потому что мертвый? – спросил он однажды доктора Кедра.
– Да, – ответил доктор Кедр. – В каком-то смысле он никогда не был живой.
– Не был живой, – как эхо повторил Гомер.
– Есть женщины, которые просто не могут прервать беременность, – сказал доктор Кедр. – Такая женщина чувствует в себе живого ребенка с первой секунды зачатия и уверена, что он должен родиться, хоть он ей не нужен, ей его не вырастить. Тогда она едет сюда, родит и оставляет ребенка нам. А мы ищем ему семью.
– Так получается сирота, – сказал Гомер. – И кто-то должен усыновить его.
– Обычно мы находим семью.
– Обычно, – кивнул Гомер. – По большей части.
– Рано или поздно, – уточнил доктор Кедр.
– А иногда, – сказал Гомер Бур, – женщина не хочет родить ребенка. И не родит.
– Иногда она с самого начала понимает, что ребенок ей ни к чему.
– И ребенок с первой секунды сирота?
– Можно сказать и так.
– И она убивает его, – продолжал Гомер.
– Если хочешь. Но можно и по-другому сказать: избавляется от него, пока он еще не стал ребенком. Прерывает беременность. В первые три или четыре месяца эмбрион, или плод (не ребенок!), еще не имеет собственной жизни. Он живет за счет матери. Он еще не развился.
– Не совсем развился, – поправил Гомер доктора Кедра.
– Не может самостоятельно двигаться.
– У него еще нет настоящего носа, – вспомнил Гомер. У того эмбриона было две дырочки, как на пятачке поросенка.
– Если женщина сильная и знает, что никто на свете не будет любить ее ребенка, она приходит сюда, и я помогаю ей.
– А как эта помощь называется? – спросил Гомер.
– Аборт, – ответил доктор Кедр.
– Точно, – опять кивнул Гомер. – Аборт.
– А в руке ты тогда держал абортированный плод. Трехмесячный эмбрион.
– Трехмесячный эмбрион, – повторил Гомер.
У него была несносная привычка повторять окончания фраз, как будто он тренировался произносить слова перед чтением «Давида Копперфильда».
– Вот почему, – продолжал терпеливо объяснять доктор Кедр, – некоторые женщины не похожи на беременных. Эмбрион, то есть плод, еще так мал, что ничего не заметно.
– Но они все беременные? – спросил Гомер. – Значит, эти все женщины или родят сироту, или убивают его?
– Да, – ответил доктор Кедр. – Я просто врач. Делаю то, что они хотят, помогаю родить сироту или делаю аборт.
– Сироту или аборт, – повторил Гомер.
– У вас, Уилбур, появилась еще одна тень, – пошутила сестра Эдна.
– Доктор Кедр, – сказала сестра Анджела, – вы обрели эхо, другими словами – попугая.
– Господь Бог, или что там есть, – ответил им доктор Кедр, – простит меня, что я сотворил себе ученика. Тринадцатилетнего ученика.
К пятнадцати годам Гомер так хорошо читал вслух, что старшие девочки обратились с просьбой к доктору Кедру: пусть Гомер и им почитает Диккенса.
– Только старшим девочкам? – спросил Гомер.
– Конечно нет, – ответил Кедр. – Если уж читать, то всем.
– Точно, – согласился Гомер. – А кому первым – мальчикам или девочкам?
– Девочкам. Девочки ложатся спать раньше мальчиков.
– Да? – спросил Гомер.
– Да. Во всяком случае, у нас.
– Начинать с того места, где я остановился у мальчиков?
Он перечитывал «Давида Копперфильда» уже четвертый раз (вслух третий) и дошел до шестнадцатой главы: «Новенький во всех смыслах».
Но доктор Кедр решил, что девочкам-сиротам лучше слушать про девочек, ведь мальчикам он выбрал книгу про сироту Давида. И дал Гомеру роман Бронте «Джейн Эйр».
Гомер сразу заметил, что девочки более благодарные слушатели, в худшую сторону их отличало одно: когда Гомер появлялся в спальне или уходил, они хихикали. Зато с каким наслаждением они слушали, ведь «Джейн Эйр» не столь интересная книжка, как «Давид Копперфильд». И пишет Шарлотта Бронте хуже, чем Чарльз Диккенс. Да и Джейн просто пискля, а девочки просили в конце прочитать еще хотя бы страничку. Но неумолимый Гомер отчитает двадцать минут, скорее вон из спальни и бегом в отделение мальчиков. Ночной воздух снаружи часто пах опилками, которых давно не было и в помине. Только тьма хранила еще след канувшего в Лету Сент-Облака, запахи лесопильни и даже тяжелую вонь сигар рабочих-пильщиков.
– Ночью иногда вдруг дохнет древесиной и сигарным дымом, – говорил Гомер доктору Кедру.
И у того всплывало воспоминание, от которого мороз подирал по коже.
В отделении девочек пахло не так, как у мальчиков, хотя в остальном было все то же – наружные трубы, больничный цвет стен, тот же распорядок дня. Пахло приятнее, но дух был гуще; лучше это или нет, Гомер не мог решить.
На ночь девочки и мальчики одевались одинаково – майки и трусы. Когда Гомер приходил к девочкам, они были уже в постелях, по пояс укрыты одеялами, одни лежали, другие сидели. У нескольких наметились груди, и они прикрывали их скрещенными руками; все, кроме одной, самой старшей и физически развитой. Она была старше и крупнее Гомера. Это она пересекала финишную прямую, приподняв его на бедро, в знаменитых гонках на трех ногах. Звали ее Мелони (по замыслу – Мелоди); это ее груди коснулся однажды Гомер, а она ущипнула его пенис.
Мелони слушала его, сидя на заправленной кровати в позе индейца, ночные трусы тесноваты, кулаки упираются в бедра, локти растопырены наподобие крыльев, полные груди выставлены вперед, над резинкой трусов – складка голого живота. Каждый вечер заведующая отделением миссис Гроган говорила ей:
– Ты простудишься, Мелони.
– Нет, – коротко отвечала та.
Миссис Гроган только вздыхала. Она старалась внушить девочкам – на этом зиждился ее авторитет, – что, вредя себе и другим, они причиняют боль ей, их воспитательнице.
– Вы делаете мне больно, – говорила она, глядя, как девочки дерутся, таскают друг друга за волосы, вцепляются в глаза, бьют кулаками по лицу. – Очень, очень больно.
На девочек этот воспитательный прием действовал. Но не на Мелони. Миссис Гроган любила ее больше всех, но завоевать ее расположение была бессильна.
– Если ты заболеешь, Мелони, мне будет больно. Оденься, пожалуйста, – плачущим голосом просила миссис Гроган (за что и получила прозвище Плакса). – Ты совсем раздета. Мне очень, очень больно смотреть на тебя.
Но Мелони сидела не шелохнувшись, не сводя глаз с Гомера. Она была крупнее миссис Гроган, слишком велика для детского приюта. Слишком велика для удочерения. Девочкой ее уже не назовешь, думал Гомер. Выше сестры Эдны, выше сестры Анджелы, ростом почти с доктора Кедра, тело как налитое. Гомер уже несколько лет не участвовал в гонках на трех ногах, но знал, что Мелони очень сильная. Он именно из-за нее отказался от гонок. Ведь бегать-то в паре приходилось с ней – они в приюте самые старшие.
Читая «Джейн Эйр», Гомер старался не глядеть на Мелони; стоило поднять на нее глаза, он чувствовал своим бедром ее бедро. Он знал: она недовольна, что он не участвует в гонках. И еще он боялся, вдруг она поймет, что его волнует ее полнота, что полнота кажется ему, сироте, даром Небес.
Чувствительные сцены из «Джейн Эйр» (слишком чувствительные для Гомера) исторгали слезы из глаз девочек, миссис Гроган громко вздыхала, даже всхлипывала. А Мелони, слушая эти умильные сцены, начинала тяжело, прерывисто дышать, как будто они будили в ней едва сдерживаемый гнев.
Конец четвертой главы оказался последней каплей.
– «Тот вечер отличался особым покоем, разлитой в мире гармонией, – прочитал Гомер и, услыхав злобное шипение, храбро продолжал дальше: – Бетси рассказала мне несколько очаровательных историй и спела свои нежные песенки. – (К счастью, оставалось всего одно предложение, но могучая грудь Мелони уже пришла в движение.) – Даже в моей жизни (щебетала Джейн) проглядывало иногда солнышко», – успел прочитать Гомер заключительную фразу.
– Проглядывало солнышко! – взорвалась Мелони, возмущенная, на ее взгляд, явной фальшью. – Пусть бы приехала сюда! Посмотрела, как здесь проглядывает солнышко!
– Ах, Мелони, – вздохнула миссис Гроган. – Ты причиняешь мне боль.
– Солнышко! – взвилась опять Мелони.
Вся спальня заволновалась. Девочки полезли под одеяло, некоторые заплакали.
– Мне так больно от твоих слов! – лепетала миссис Гроган. – Я этого не вынесу!
Гомер поспешил уйти – глава все равно кончилась. На этот раз к хихиканью, обычно сопровождавшему его уход, примешивались всхлипывания и саркастические возгласы Мелони.
– Проглядывает, как же! – кричала она вслед Гомеру. – Может, где и проглядывает.
– Ты нам всем делаешь больно, – увещевала ее миссис Гроган.
Ночь снаружи была полна запахов. Пахло не только опилками, но еще чем-то едким – не то духами из бывшего борделя, не то застарелым потом из зальцы для игры в бинго. И ко всему примешивались идущие от реки испарения.
В отделении мальчиков его уже ждали. Младшие успели уснуть. Остальные лежали с открытыми глазами и ртом, как птенцы в гнезде, ожидающие пищи. Гомеру казалось, он кормит их своим голосом и они вечно просят еще. Как от сытости, от чтения у них начинали слипаться глаза, но сам Гомер не мог заснуть. Он лежал после вечернего благословения; в темноте еще витали его отголоски. И он жалел, что спит не в детской с младенцами, – их плач наверняка действует усыпляюще.
Сироты постарше мешали ему спать, производя различные шумы. Один из Джонов Уилбуров спал на прорезиненной простыне, и Гомер бодрствовал в ожидании, когда Джонни наконец помочится. Иногда он будил мальчика, вел в туалет, нацеливал маленький пенис и шептал: «Пи-пи-пи, Джон Уилбур. Писай здесь, писай!» Спящий мальчик оседал у него в руках, не чая вернуться в постель, в родную теплую лужу.
Иногда же, выйдя из терпения, Гомер подходил к кровати Джона Уилбура и шепотом приказывал: «Писай!» Приказ исполнялся незамедлительно.
Более печально дело обстояло с больным маленьким Фаззи Буком, «крестником» сестры Анджелы. Фаззи мучил постоянный сухой кашель. Красные глаза слезились. Спал он внутри палатки с увлажнителем воздуха: водяное колесо с вентилятором, приводимое в действие батарейкой, разбрызгивало всю ночь в палатке водяной пар. Грудь Фаззи хрипела, как будто в ней работал маленький, теряющий обороты моторчик; влажные, прохладные простыни, которыми он был обернут, трепыхались всю ночь, как поверхность огромного полупрозрачного легкого. Водяное колесо, вентилятор, затрудненное дыхание Фаззи – все это сливалось в один протяжный шум; если бы что-нибудь одно вдруг умолкло, Гомер не понял бы, какие два звука продолжают жить.
По мнению доктора Кедра, у Фаззи Бука была аллергия на пыль, а мальчик родился и все годы жил в бывшей лесопильне – не самое лучшее для него место. Но ребенку с хроническим бронхитом не так-то легко подыскать семью. Кто согласится денно и нощно терпеть этот надсадный кашель?
Когда кашель Фаззи Бука становился невыносим, когда легкие, водяное колесо и вентилятор – все, что поддерживало жизнь Фаззи, – начинали сверлить голову, Гомер, неслышно ступая, шел в детскую. Там всегда дежурила одна из сестер. Они обычно не спали, подходя то к одной кроватке, то к другой. Иногда младенцы, как сговорившись, вели себя тихо, дежурная сестра засыпала, и Гомер на цыпочках проходил мимо нее.
Однажды в детской он увидел мать, отказавшуюся от ребенка. Она не искала свою малышку, просто стояла в больничном халате посреди детской с закрытыми глазами, впитывая в себя запахи и звуки спящих младенцев. Гомер боялся, что она разбудит сестру Анджелу, дремавшую на дежурной койке, и сестра Анджела на нее рассердится. Медленно, осторожно, как, по мнению Гомера, надо обращаться с лунатиками, он отвел женщину в палату для матерей. Матери часто просыпались, когда он заглядывал к ним, просили пить, и он приносил им стакан воды.
Женщины, приезжавшие делать аборт, редко оставались на ночь. После абортов приходят в себя быстрее, чем после родов. Доктор Кедр заметил, что они предпочитают приехать спозаранку и уехать в тот же день с наступлением сумерек. Днем плач новорожденных не так слышен из-за шумных игр старших детей, разговоров матерей и сестер, а именно детский плач особенно волновал женщин после аборта. По ночам, если не считать журчания, доносившегося изредка с кровати Джона Уилбура, и кашля Фаззи Бука, все было тихо. Разве что ухнет сова или заплачет младенец. Не составляло труда заметить, что женщинам после аборта тяжело слышать их плач. Роды принимаются не по графику, зато аборты доктор Кедр всегда назначал на утро, после чего женщина днем отдыхала и вечером покидала приют. Некоторые жили далеко, он советовал им приезжать накануне: на ночь он даст снотворное, а за день успеют набраться сил для обратной дороги.
Женщины, приехавшие вечером, никогда не ночевали в одной палате с пациентками на сносях или уже родившими. Гомер, бродя в бессонные ночи по Сент-Облаку, видел, что лица у этих женщин во сне так же тревожны, как лица родивших или готовых родить. Гомер пытался представить себе, среди спящих и бодрствующих, лицо собственной матери. Куда она уехала после родов? А может, ей и некуда было ехать? Что в те дни думал его отец (если знал, что будет отцом), пока она здесь лежала? И вообще, знала ли она, кто отец?
Женщины иногда спрашивали его:
– Это у тебя практика?
– Ты будешь врачом, когда вырастешь?
– Ты тоже сирота?
– Сколько тебе лет? Тебя не усыновляли?
– Может, тебя взяли, а потом вернули?
– Тебе здесь нравится?
И он отвечал:
– Можно сказать и так.
– Наверно, буду; доктор Кедр – очень хороший учитель.
– Да, сирота.
– Скоро шестнадцать. Были попытки, но усыновление не для меня.
– Я сам захотел вернуться.
– Да, мне здесь нравится.
– Значит, ты отказался бы, если бы кто захотел тебя усыновить? – спросила одна из женщин, с огромным животом под туго натянутой простыней.
– Отказался бы. Точно.
– И ты даже не думаешь об этом?
– Думаю. Но сколько бы ни думал, все равно не передумаю. Буду здесь, пока нужен. Пока приношу пользу.
Беременная женщина заплакала. Гомер боялся взглянуть на нее, живот у нее, казалось, сию минуту лопнет.
– Пока приношу пользу, – повторила она сквозь слезы, как будто переняла у Гомера повторять окончания фраз. Спустила к ногам простыню, задрала больничную рубашку. Сестра Эдна уже побрила ее.
Женщина положила руки на огромный живот.
– Гомер, – прошептала она, – хочешь принести пользу?
– Да. – У Гомера перехватило дыхание.
– Никто, кроме меня самой, не клал мне на живот руку. Никто не прикладывал ухо послушать, как он там. Нельзя беременеть, если некому слушать, как ребенок ворочается у тебя под сердцем. Правда?
– Не знаю, – проговорил Гомер.
– А ты не можешь положить мне на живот свою руку?
– Конечно могу, – сказал Гомер и коснулся ладонью твердого горячего живота.
– Приложи сюда ухо, – попросила женщина.
Он приблизил к животу ухо, и женщина с силой прижала его к себе. Внутри у нее как будто били на барабане. Вся она была горячая, как выключенный, но еще не остывший мотор. Если бы Гомер видел океан, он сравнил бы ее еще с колыханием прибоя, с волнами, набегающими на берег и откатывающимися назад.
– Нельзя родить ребенка, если никто не хочет спать, положив сюда голову, – шептала женщина, похлопывая ладонью по животу рядом с головой Гомера.
«Куда „сюда?“» – думал Гомер, ведь на всем животе и грудях не было ни одного плоского местечка. Груди были все-таки более подходящей подушкой, но она говорила не о них. Вслушиваясь в бурление и ворочание у нее в животе, Гомеру не верилось, что там только один ребенок. Ему померещилось, что там целый народ.
– Хочешь принести пользу? – спросила женщина, продолжая тихо плакать. – Поспи так немного.
Он сделал вид, что спит на этом живом валуне, к которому она все прижимала и прижимала его голову. Он первый понял, что у нее стали отходить воды; наплакавшись, она забылась коротким сном. Гомер, не будя ее, пошел искать сестру Эдну. И с первыми проблесками зари родилась крепкая, восьми фунтов, девочка. Сестры Эдна и Анджела девочкам имен не давали; нарекли ее через несколько дней – не то миссис Гроган, любившая ирландские имена, не то секретарша, которая плохо печатала на машинке (это из-за нее Мелони упустила шанс именоваться Мелоди), но обожала придумывать девочкам имена.
Сколько потом ни искал Гомер эту девочку, так и не смог найти. Вглядывался в появившихся той ночью детей, как будто не сомневался, что ночное бдение на животе ее матери обострит его чувства и он опознает ее.
Но конечно, он ее не нашел. Примет на ней никаких не было, единственной подсказкой были звуки материнского чрева.
Он даже Мелони посвятил в эту игру. Но Мелони, верная себе, отнеслась к ней с насмешкой.
– Что, по-твоему, девочка могла сделать такого в животе, чтобы ты потом узнал ее? Булькнуть, пукнуть или стукнуть тебя пяткой по уху? – сказала она.
Гомер ничего не ответил. Это была его сокровенная игра – для себя и с собой. Сироты любят такие игры. Есть еще одна стародавняя игра: сирота вдруг вообразит, что родители, одумавшись, теперь всюду ищут его. А Гомер целую ночь провел с матерью уже потерявшейся девочки, узнал, что и отец никогда не будет ее искать. Может, потому он и пытался найти ее. Она наверняка будет когда-нибудь играть в «одумавшихся родителей», так пусть хоть один человек на земле ищет ее, даже если это просто другой сирота.
Доктор Кедр решил поговорить с Гомером о Мелони.
– Злость – смешная штука… – сказал он, уверенный однако, что это не совсем так.
– Я что хочу сказать, – перебил его Гомер. – Я согласен, отрывок с этим самым солнышком и правда слишком чувствительный. Читаешь его – и тебя коробит. Но Джейн Эйр именно так говорит, просто она такая. Что тут поделаешь. А Мелони почему-то зашлась от злости.
И доктор Кедр стал рассказывать. Мелони – одна из немногих сирот, родившихся не в больнице приюта. Ее нашли рано утром у больничной двери. Ей было года четыре, может, пять, она всегда была крупный ребенок, и точно определить, сколько ей лет, никто не мог. До восьми или девяти лет она молчала, и доктор Кедр даже подумал, что имеет дело с умственно отсталым ребенком. Но проблема заключалась в другом.
– Мелони всегда была злюкой, – говорил доктор Кедр. – Мы не знаем, где она родилась, у кого, что пережила в раннем детстве. И она сама вряд ли сознаёт причину своего озлобления. – Кедр замолчал, взвешивая, сказать ли Гомеру, что Мелони пробовали отдать на воспитание более четырех раз. И все-таки решился. – Мелони претерпела несколько неудачных удочерений, – осторожно произнес он. – Попроси ее рассказать об этом, если представится случай. Рассказывая, она даст выход накопившейся злобе. Как раз то, что в ее случае нужно.
– Спросить об удочерении? – Гомер покачал головой. – Не знаю. Я никогда ни о чем с ней не разговариваю.
Доктор Кедр тут же пожалел о сказанном. Наверное, Мелони помнит о своей первой семье. Они вернули ее обратно, утверждая, что она укусила их любимую собачку, подравшись из-за мяча. Ладно бы один раз. Но она все время ее кусала, уверяли они. Подкрадется к собаке, когда та ест или спит, и куснет. Собака чуть не сошла с ума.
От вторых и третьих родителей Мелони сама сбежала, объяснив побег тем, что отцы или братья в этих семействах проявляли к ней нездоровый интерес. Четвертая семья обвинила Мелони в нездоровом интересе к младшей дочери. Пятые родители из-за Мелони разошлись. Жена утверждала, что муж соблазнил приемную дочь. Муж утверждал, что приемная дочь сама соблазнила его, применив насилие. Мелони прокомментировала ситуацию недвусмысленно. «Меня соблазнить не может никто», – гордо заявила она миссис Гроган. В шестом семействе вскоре после появления Мелони умер муж, и жена отправила ее назад в Сент-Облако, написав, что одна не сможет воспитывать Мелони, чувствуя себя недостаточно к этому подготовленной. (В разговоре с миссис Гроган Мелони отпустила только одно замечание: «Видели бы вы эту неподготовленную!»)